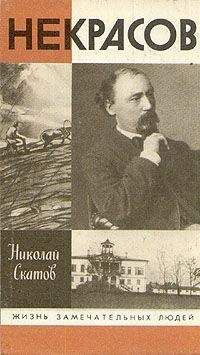Есть у Некрасова в стихах «Песня Еремушке», издавна, чуть ли не с детства заучивавшихся в русской жизни и возбуждавших ее, строки, страшный смысл которых до конца не позволяет осознать, может быть, только их хрестоматийная стертость. Это призыв к молодому поколению воспитать в себе
Необузданную, дикую
К угнетателям вражду
И доверенность великую
К бескорыстному труду.
Благородный вроде бы призыв проговорился чудовищным приговором — к взрыву «бессмысленному и беспощадному», то есть к вражде «необузданной и дикой». Так выплеснулась в разные стороны буйная дикая необузданная некрасовская кровь: в беспощадном барском мордобое отца-помещика тогда и в беспощадном бунташном выкрике сына-поэта потом.
Почти любое действо крепостнического произвола и угнетения, надругательства и эксплуатации будущий поэт видел рядом и постоянно, индивидуально и, так сказать, казусно. Личность из народа он узнал раньше, чем осознал народ. А это давало и совершенно особое знание народа, такое знание, какого больше никто не представил в русской поэзии, а может быть, и во всей русской литературе.
Грешневская усадьба погибнет много позднее от пожара. Случайность ли то была, или поджог — дальний отблеск пугачевских пожаров конца XVIII века и еще не очень близкое предзнаменование революционных пожаров начала века XX — трудно сказать. Но, во всяком случае, как поведала свидетельница-крестьянка, людьми на пожаре «ведра вылито не было».
В Грешневе было получено будущим поэтом первоначальное, то есть, в известном смысле, главное воспитание. Ни о каких гувернерах, даже ни о каких, хотя бы сносных, домашних учителях, речи быть не могло.
Естественно, жизнь воспитывала полным своим составом. И все-таки в этом некрасовском воспитании, судя по всему в дальнейшем пережитому и написанному, можно выделить ряд обстоятельств.
Прежде всего не следует думать только об «оппозиции» Некрасова, особенно Некрасова-ребенка, отрока, молодого человека всей этой жизни,
Где было суждено мне белый свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть,
Но, ненависть в душе постыдно притая,
Где иногда бывал помещиком и я.
И в другом месте о себе, правда, не без молодой и порой чрезмерной романтизации:
Вокруг меня кипел разврат волною грязной,
Боролись страсти нищеты,
И на душу мою той жизни безобразной
Ложились грубые черты.
И прежде, чем понять рассудком неразвитым,
Ребенок, мог я что-нибудь,
Проник уже порок дыханьем ядовитым
В мою младенческую грудь.
Некрасов еще в молодости раз и навсегда принципиально отказался есть «хлеб, возделанный рабами». Никогда, в отличие от многих передовых деятелей (Герцен, Огарев, Тургенев...) не имел крепостных, не владел людьми, хотя позднее располагал для этого всеми юридическими правами и материальными возможностями — наследственными и благоприобретенными.
«Судьбе угодно было, что я пользовался крепостным хлебом только до 16 лет, далее я не только никогда не владел крепостными, но, будучи наследником своих отцов, имевших родовые поместья, не был ни одного дня даже владельцем клочка родовой земли. Дело моих братьев сказать, как это так вышло. Я когда-то написал:
Хлеб полей, возделанных рабами,
Нейдет мне впрок...
Написав этот стих еще почти в детстве, может быть, я желал оправдать его на деле».
И все же он не переставал «иногда» бывать помещиком, оставаться барином, становиться господином — в характере, в привычках, во многих отношениях к жизни, в дурных страстях, если угодно, в реальных «грехах». Правда, никогда почти не направленных против кого-то, кроме, может быть, себя самого. Не потому ли деликатнейший и щепетильнейший Чехов, отвечая на вопрос о «недостатках» и, так сказать, пороках Некрасова, заявил, что никому он так охотно их не прощает, как Некрасову. Некрасов-то их себе не прощал:
Но все, что, жизнь мою опутав с первых лет,
Проклятьем на меня легло неотразимым, —
Всему начало здесь, в краю моем родимом!..
Чему же здесь было положено начало?
В неведомой глуши, в деревне полудикой
Я рос средь буйных дикарей,
И мне дала судьба, по милости великой,
В руководители псарей.
Псарем и, соответственно, руководителем номер один был отец. Охота в Грешневе при всем небогатстве хозяев держалась богатая, большая — и людьми и собаками. Нужно при этом иметь в виду, что охота была не только тем, что тешило барскую волю разгулом и развлечением: скажем, осенняя охота была и особой, так сказать, заготовительной, к зиме, кампанией. Когда отец сообщает в одном из писем, что за сезон затравлено шестьсот тридцать четыре зайца, то это означает, что дом и вся обслуга будут на зиму с засоленной зайчатиной, в дело и на продажу уйдут и шкурки. Охота — целая сфера жизни со своей теорией и практикой, со своим бытом и поэзией, со своими регламентациями и специализациями. Все это Некрасовым впитано, конечно, не с молоком матери, но буквально с кровью отца.
«10 лет, — вспоминает сестра Анна, — он убил первую утку на Печельском озере, был октябрь, окраины озера уже заволокло льдом, собака не шла в воду. Он поплыл сам за уткой и достал ее. Это стоило ему горячки, но от охоты не отвадило. Отец брал его на свою псовую охоту, но он ее не любил. Приучили его к верховой езде довольно оригинально и не особенно нежно. Он сам рассказывал, что однажды 18 раз в день упал с лошади. Дело было зимой — мягко. Зато после всю жизнь он не боялся никакой лошади, смело садился на клячу и на бешеного жеребца».
Здесь-то, при отце, поэт прошел великолепную школу, классическую, подлинно боевую подготовку и получил прекрасную физическую закалку, которую долго не могли сокрушить последующие тяжелые — не только материально — годы. Здесь он был истинным сыном своего отца, учеником, наследником и продолжателем.
В не вошедшей в стихотворение «Уныние» строфе (мы уже отметили, что часто такого рода черновые строфы больше окончательных приближают к реальному образу Некрасова) поэт писал:
Но первые шаги не в нашей власти!
Отец мой был охотник и игрок,
И от него в наследство эти страсти
Я получил — они пошли мне впрок.
Не зол, но крут, детей в суровой школе
Держал старик, растил, как дикарей.
Мы жили с ним в лесу да в чистом поле,
Травя волков, стреляя в глухарей.
Хаживая и на медведей — можно было бы продолжить, — но это уже во взрослой жизни. Чучело громадного медведя, встречавшее гостей в передней петербургской квартиры Некрасова, — предмет его охотничьей гордости и свидетельство его боевой отваги. В стихах «Весело бить вас, медведи почтенные» Некрасов, как бы отдавая уважительное должное калибру зверя (все же — «почтенные»), в то же время говорит так, как будто счет идет на зайцев или куропаток. Но действительно: «Я был на охоте четыре дня, — сообщает он брату Федору, — убил медведицу и двух медведей, в коих до 40 пудов весу». «Я слыхал, — пишет он о другой охоте своему приятелю и врачевателю, знаменитому доктору Боткину, — что в Медицинской академии нет медведя. Третьего дня я убил трех медведей, они у меня в сарае. Я готов одного любого подарить академии, если ей нужно... не возьмете ли на себя, глубокоуважаемый Сергей Петрович, уведомить академию...» Правда и то, что стрелком он был отличным: по цели, и влет, и с коня.