Все труднее заставлять себя двигаться, не позволять себе броситься ничком на землю, чтобы вжаться в нее и — будь что будет! Нельзя! Если ляжет, не увидит своего взвода, не заметит, как все чаще оборачиваются к нему встревоженные лица, будто ждут от него чего-то, да не просто ждут — почти требуют.
Команды ждут. Команды требуют. А какой команды? Что именно должен он скомандовать?
Ну, шевели же мозгами, прапорщик! Ведь тебе людей доверили, целый взвод. Чему учили тебя? Мало ли чему учили… Открывать огонь? По какой цели? Противник-то укрыт! Продолжать атаку? Но ежели и дальше так, до тех кустов заклятых взводу не добраться, ни один солдат не встанет. А что же сосед слева и сосед справа?..
— Взво-од! — заорал он, стараясь погромче, а получилось тонко, визгливо. — Ла-ажись! Применяйся к местности!
Взвод будто едва дождался этих слов — залег тотчас же, дружно.
Надо бы теперь и взводному залечь, к земле тянет неудержимо. Но нельзя, стыдно. Что солдаты подумают?
И в тот же момент дюжие руки сваливают прапорщика наземь. Рядом — лихие усы Фомичева, а над усами — неожиданно добрые, почти нежные глаза солдатские.
— Уж не взыщите, ваше благородие! Скосят ведь…
Конечно, узенькой Пахре далековато до полноводного Немана. Но любая река хороша, когда чистым утром поднимается над поймой туман и все четче видны кусты ивняка, а вдали, где повыше, где нет тумана, там желтая листва осеннего прибрежного леса залита красноватым светом зари. Местами в чаще темнеют тенистые провалы…
Написать бы этот пейзаж — остановить прекрасное мгновение, чтобы потом не раз усладило взор! Да где этюдник, где кисти, где тюбики с красками и пузырек с разбавителем? Не до них теперь, не до того… Прости, Василий Дмитриевич, прости, старый учитель… Жизнь щедра не только на прекрасные мгновения, в ней много такого, что к пейзажной лирике никак не относится. Об этом-то и размышлял Иосиф, выйдя на берег Пахры и невольно залюбовавшись увиденным. Его теперь заботило иное.
Небывалому по протяженности фронту требовались снаряды, снаряды и снаряды. В Подольске создавался еще один завод — «Земгор»,[1] снарядный. Быть может, под воздействием захлестнувших было его на первых порах патриотических настроений Иосиф и желал бы поступить на тот завод — изготовлять снаряды для фронта. Но теперь решал не он — решала партия. А она решила, что токарь-инструмеитальщик Варейкис в новых, усложнившихся условиях борьбы должен оставаться там, где к тому времени уже работал и освоился, — на Подольском заводе швейных машин американской компании «Зингер». Там же, где Чижов…
Иосиф вздыхает, поеживается, решительно одергивает перетянутую ремнем синюю блузу под пиджаком, приглаживает вздыбленные прохладным ветерком длинные волосы — они тотчас снова разлетаются — и шагает дальше, вдоль берега Пахры, к месту встречи с товарищами.
Обычно они собирались в «моргаловке» — полуподвале маленького домика с незрячими оконцами. Нынче же решили встретиться подальше от города, на берегу Пахры, где вряд ли помешают городовые и не выследят сыщики. К тому же назначили встречу не поздним вечером, как бывало, а с утра пораньше, когда царские ищейки отсыпаются после трудов неправедных.
Нет, не воскресенье сегодня. Но в цехах сейчас делать нечего.
Сейчас молча стоит у окна в инструментальном токарный станок Варейкиса — самоточка американского производства, на таком Иосиф все, что бы ни потребовалось, выточить сумеет. Но не сейчас. Сейчас его станок — без жизни, без движения. Не работают и соседние станки, станки его товарищей по цеху — молчуна-сухаря Завгороднего, шустренького Кузнецова… Стоят станки всего инструментального цеха. Стоит весь завод швейных машин компании «Зингер». Не покидают заводской территории красавицы машины — черным лаком покрытый златокрылыми сфинксами разрисованные. Ждите, женщины, новых машин фирмы «Зингер», терпеливо ждите!
А у тех, кто делает для вас столь красивые и удобные машины, терпение на исходе. И потому на заводе «Зингер» еще одна стачка. Не первая за последнее время.
На сей раз зингеровцы потребовали пятнадцатипроцентной прибавки к зарплате. Если господин Диксон уступит хоть половину, считай, дело выгорело. Куда ему деваться, директору? Похоже, что уступит. Теперь не узнать стало Диксона, сговорчивее сделался, тоже соображает, что иные времена наступили.
Главное — не та, что прежде, а несравненно большая сила у большевиков Подольска. Ощутимое пополнение составили и прибывшие на новый снарядный завод латыши — народ в большинстве своем организованный, политически развитый и активный. Неплохо было придумано и с использованием драмкружка при клубе — отменная ширма для партийной деятельности. Из четырех тысяч зингеровцев здесь, в кружке, вместе с Иосифом уже участвовало с полсотни молодых товарищей.
Да, новые времена настали. Иосиф не сомпевался, что затеянная стачка увенчается успехом. И дело, разумеется, не только в прибавке к зарплате. На повестку дня партия выдвинула такие политические требования, как активная революционная борьба — вплоть до свержения власти, не только продолжающей беззастенчиво угнетать и грабить народ, но и втянувшей его в безумную мировую бойню, которая уже оборачивается для страдалицы России голодом, кровью, горем…
Солнце появилось над берегами Пахры, насыщая красками пожухлые прибрежные травы.
— Тэ-экс! — будто выстрелом в затылок. — Еще одна пташка попалась!
Мгновенно оглянувшись, Иосиф увидел сверкнувшие пуговицы, бурые усы над желтыми, злорадно оскаленными зубами, кокарду над черным козырьком. Узнал старшего городового Карасева — свирепейшего и тупейшего из российских городовых.
Справа, слева, везде, надвинулись вплотную… Облава! Значит, кто-то предал!..
Грубо схватили запястья, нажали на локти, вывернули руки — боль дьявольская! — невольно пришлось согнуться в унизительном поклоне… Не поддаваться! Он напрягся весь, вырвался на миг, успел намертво сцепить пальцы перед грудью (спасибо дяде Юозасу, обучившему когда-то этому приему!), — теперь ломайте руки, изверги! Если сумеете…
Но их много, они тоже многое умеют и могут — все так же злорадно скалясь, городовой Карасев стремительно вбивает в беззащитное лицо Иосифа свой кондовый кулак…
Голос Черкасского давно был сорван, да и любой одинокий человеческий голос не пробился бы сквозь добросовестное тарахтенье «максимов» и неумолчный грохот гаубиц. Поэтому, увидев третью сигнальную ракету и заметив благословляющий взмах руки ротного, он не стал ничего кричать, а просто дунул что было силы в свой роговой свисток, притороченный тонким ремешком к портупее. Солдаты услышали знакомую трель и деловито полезли на брустверы. Он тоже выпрыгнул, споткнувшись правой ногой (дурное предзнаменование!), выждал, Убедился, что никто не отстал и не остался, привычно выхватил из ножен шашку и рванулся вперед в промокших легких сапогах, обгоняя свой тяжело бегущий взвод.
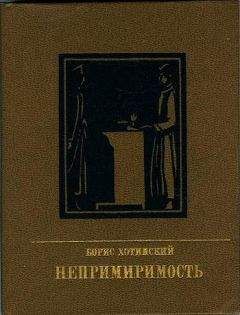
![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/42646/42646.jpg)



