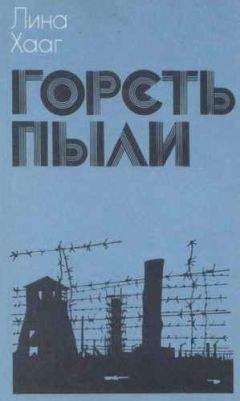Когда я собралась уходить, родители пришли в ужас: «Куда?» — «Домой!» — «Домой? Разве ты не знаешь?.. Квартира занята, теперь в ней живут другие, никто не знал, как долго все это продлится. Мебель сдали на хранение на склад».
Я вижу: говоря это, они по-настоящему огорчены. Но это не утешение. Итак, у нас больше нет своего дома. Своего угла. Нет ничего, принадлежащего только нам. Ты в концлагере, мебель на складе. Куда же деваться мне, все развалилось, больше я не чувствую почвы под ногами, мне кажется, я выброшена из жизни. Где будешь ты искать меня по возвращении? Что почувствуешь, когда будешь стоять у нашей двери и тебе откроют чужие люди? Конечно, придешь сюда, это ясно. И все же, все же.
По моему лицу льются слезы. Родители перепуганы. Они не понимают. Ведь я могу остаться у них, как это бывало и раньше. Как раньше. Неужели они не понимают, что теперь совсем все по-другому. Что мы не можем больше идти домой, домой к нам. Что мы утратили нечто большее, чем жилище. Наш добрый небольшой мир. Со всем счастьем, которое окружали эти стены.
Кетле поцелуями осушает мои слезы. Я держу в объятиях это милое создание. Или она держит меня в своих? Так просто не могу ответить на этот вопрос. А все-таки? Да, дитя держит меня в своих объятиях, я чувствую это. Даже просыпаясь ночью, ощущаю ее ручонку, любовно обнимающую меня. Со всей своей любовью. Со всей твоей любовью. Может быть, только мать может это по-настоящему понять. Но это так. Не будь у меня Кетле, боже мой…
Ты все еще в казематах Куберга. Комендант лагеря — пресловутый Бук. Больше мне ничего неизвестно. Я разыскиваю людей, которые там побывали. Может быть, удастся что-нибудь предпринять. Если бы можно было хотя бы тайком передать письмо. Когда я заговариваю об этом, люди умолкают и в страхе озираются по сторонам. Это боязливое оглядывание по сторонам завсегдатаи пивных окрестили «немецким взглядом», шутка, часто вызывающая смех. Она оказывается весьма меткой. Насколько меткой, явствует также из того, что многие, которых я расспрашиваю, ни о чем не рассказывают. Перед тем как выйти на свободу они, как и я, дали подписку, что не будут разглашать ничего из того, что им известно о жизни в лагере. Поэтому они молчат. Не потому, что подписались, а из страха перед смертью. Поэтому они молчат. Но не молчит Бруно Линднер.
Мы встречаемся с ним в небольшом лесочке за городом. Бруно находится на нелегальном положении и — свободен. Это означает, что, преследуемый гестапо, он скитается по городу. Собирается нелегально перейти границу, и среди следующих за ним по пятам гестаповцев слывет наиболее опасным. Без пристанища, вечно затравленный, каждую ночь в другом месте, без пищи, отдыха и сна.
Он посвящает меня в трудности нелегальной работы, он, как почти каждый партийный активист, овладевает ею, учась на собственном горьком опыте. Ибо мы все не имели никакого опыта, не видели опасностей и предательства, подстерегающих нас за каждым деревом, за каждым углом, за каждой притворной миной доносчика.
— Мелкому, преисполненному страха обывателю преподносят парадную шумиху с барабанным боем и грохочущим церемониальным маршем, которые заглушают любое человеческое слово и любой призыв к разуму, говорит Бруно. — И помни, ты на каждом шагу можешь встретить тех, кто бросается на свои жертвы с преступной готовностью людей, привыкших охотно выполнять самые страшные приказы.
Потом он сухо, прямо, без уверток рассказывает, как тебя доставили в Куберг. Комендант лагеря Бук предупредил своих штурмовиков и эсэсовцев о твоем приезде, обещая им особо интересное зрелище. Они хотели заставить тебя, как собаку, взбежать на четвереньках на холм, приговаривая: я подлец, обманывавший рабочих. Лицо у тебя было все залито кровью, тебя нельзя было узнать. Ах, мой бедный Фред!
Я сижу на опушке леса, обхватив голову руками. Все во мне убито. Только что был сияющий день, светило солнце, щебетали птицы, цвели луга. Теперь все померкло, стало бесконечно чужим, нереальным и мучительным, это мир, к которому я больше не принадлежу.
— Ты должна всеми средствами попытаться вырвать его оттуда, там они его прикончат.
— Да, да, — механически говорю я, — что-то надо предпринять. Это единственное, о чем я могу думать. Бруно что-то еще говорит, я слушаю его, но о чем он говорит, не понимаю. У меня только одна мысль, заполняющая меня целиком, снимающая овладевшее было мной оцепенение, заставляющая действовать: надо что-то предпринять.
— Я поеду к министру, — говорю вдруг решительно. Это решение подсказано мне отчаянием.
— Итак, — говорит Бруно и подает на прощание руку, — главное — вызволить его оттуда. А потом скрыться. Как я.
Вскоре ему действительно удается нелегально перейти швейцарскую границу. Я же возвращаюсь в город. Иду машинально, как автомат. Не замечаю ничего из происходящего вокруг. Одержимая одной-единственной мыслью — идти к министру. Еще не представляю, к какому именно. На следующий день утром еду в Штутгарт.
Я хочу поговорить с министром юстиции и внутренних дел Шмидтом. Да. Без рекомендации. Нет, не с референтом, а именно с ним. С самим министром. По личному делу. Речь идет о моем муже. Мой муж? Находится в заключении в лагере Куберг.
Чиновник в приемной качает головой. У него для этого все основания. И все же меня впускают.
То, что произошло, дело отнюдь не обычное, это невероятное, неправдоподобное счастье. Министр стоит у письменного стола. Мое сердце учащенно бьется. Великолепие и пышность обстановки смущают. Начинаю говорить, запинаясь и несколько растерянно. Мой дядя Фукс в Буэнос-Айресе, объясняю я, он оплатит проезд, если нам — моему мужу, ребенку и мне — разрешат эмигрировать в Южную Америку. Министр задает вопросы. Я совершенно откровенна. Министр не говорит «нет». Правда, не говорит и «да». Он ознакомится с делом. Через несколько дней из министерства приходит ответ: приказ о твоем освобождении будет отдан по предъявлении билетов в Буэнос-Айрес.
Я едва могу поверить этому. Я должна сесть. Прижимаю Кетле к груди. Папа вернется, говорю я, задыхаясь. Одновременно смеюсь и плачу. Радость буквально сбивает меня с ног. Когда? — спрашивает Кетле. Скоро, говорю я. Скоро. Как только, пишут они, я смогу предъявить билеты в Буэнос-Айрес. Итак, дело теперь за мной. Как хорошо, что все зависит от меня. Теперь не даю себе и минуты покоя. Проданы мебель, посуда, все, что мы когда-то приобретали, отказывая себе в самом необходимом. Проданы за бесценок, только бы поскорее. Билеты заказаны по телеграфу. Упакованы чемоданы. Только бы вон из Германии. Только бы вон.
Наконец я с Кетле и родителями стою на крытом перроне главного вокзала в Штутгарте и жду тебя. Готовая к отъезду. С чемоданами. Согласно распоряжению гестапо, навестить родителей тебе запрещено. Как только ты придешь, мы должны направиться в аргентинское консульство, получить визы, возвратиться на вокзал и уехать ночным экспрессом. Прямо к пароходу. И все это в сопровождении чиновника гестапо.