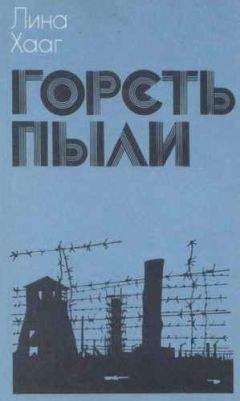Наконец я с Кетле и родителями стою на крытом перроне главного вокзала в Штутгарте и жду тебя. Готовая к отъезду. С чемоданами. Согласно распоряжению гестапо, навестить родителей тебе запрещено. Как только ты придешь, мы должны направиться в аргентинское консульство, получить визы, возвратиться на вокзал и уехать ночным экспрессом. Прямо к пароходу. И все это в сопровождении чиновника гестапо.
Возле нас шатаются двое или трое оттуда, в человеческой сутолоке я давно приметила, как внезапно выныривают и исчезают их макинтоши, но я их больше не боюсь.
Теперь чувствую себя здесь совсем чужой, как бы от всего отрешенной, беззаботная деловитость окружающих мне непонятна. Неужели здесь ничего не знают, не понимают, что к чему? Я не принадлежу больше к этим людям, они торопливо приходят и уходят, улыбаются и кивают. Они должны остаться здесь. Они пленники. Неужели они этого не замечают? А я — я могу уехать. Уехать из этой Германии, которая больше не дом, а только место пребывания. Да еще тяжелое и страшное состояние. Надо мной вздымаются своды крытого перрона, они как ворота, открывающие путь в будущее. Далеко впереди, между их последней дугой и путевым устройством, разными сигналами и железнодорожными стрелками я вижу клочок голубого неба. Мы направляемся туда. К свободе. Непрерывный шум на перроне, грохотание поездов, свистки и шипение маневрирующих паровозов музыкой звучат в моих ушах. Внезапно меня охватывает нечто вроде сострадания к людям, торопливо снующим вокруг, ничего не предчувствующим, преисполненным доверия к будущему, перед которым я испытываю страх. Мне жаль даже бродящих вокруг чиновников уголовной полиции, но помочь им ничем не могу. Они тоже должны остаться. Должны проследить за нами, убедиться, что мы действительно уехали. Они не понимают, что мы счастливее их. Не видят, что от нетерпения я нахожусь в лихорадочном возбуждении, переступаю с ноги на ногу, снова и снова поглядываю на многочисленные вокзальные часы, и уже совершенно вне себя, когда поезд медленно вкатывается под крышу перрона. Твой поезд. Проходит вечность, пока он наконец останавливается. Люди высыпают из вагонов. Мы вчетвером стоим, как волнорез, в потоке этих спешащих, болтающих, улыбающихся или плетущихся людей, я вижу лишь лица, шляпы, волосы, лбы, глаза. И потом тебя.
Теперь ты заметил меня, с трудом пересекаешь этот людской поток, направляешься к нам, бледный, небритый, осунувшийся, но ты улыбаешься. Кетле устремляется к тебе навстречу, ты наклоняешься, чтобы ее подхватить, как вдруг один из этих проклятых макинтошей оказывается подле тебя, а вот и еще один, а затем их сразу трое, те же три чиновника уголовной полиции. Они окружают тебя, ты, видимо, хочешь протестовать, они грубо отталкивают тебя все дальше и уводят. Закричала мать, что-то выкрикнул отец, я же стояла как вкопанная.
Ты не смог даже пожать мне руку и снова исчез, скрылся в гуще толпы. Вновь недосягаемый для меня.
То, что я бросила на вокзале ребенка, родителей и чемоданы, осознаю лишь позднее, когда растерянная, разговаривая сама с собой, в полном смятении брожу по улицам. Куда я, собственно, направляюсь?
Министр юстиции, отдавший приказ о твоем освобождении, явно раздражен. Как же так? Конечно, он тебя освободил. Это Бук, исключительно Бук, комендант лагеря постарался с помощью гестапо вновь тебя арестовать. Исключительно Бук, говорит министр. Проходит немало времени, пока я в состоянии понять, что произошло. При твоем освобождении ты дал понять, что за границей до последней капли крови будешь бороться за освобождение арестованных товарищей, выступать в их защиту. И, конечно, для Бука это был прекрасный повод. Прекрасный повод, говорит министр. Прекрасный, подчеркивает он. Должна же я понять это. Конечно, должна. Чего только я не должна в третьем рейхе?
По крайней мере добиваюсь разрешения на свидание с тобой.
Прижимая к сердцу дорожную сумочку с драгоценными билетами на пароход до Буэнос-Айреса, я устремляюсь в гестапо, в бывший отель «Зильбер». Министр по телефону предупредил о моем приходе. Часовой, пропуская меня, направляет меня к другому часовому. В этом доме вижу только часовых, штурмовиков, эсэсовцев и штатских. В унылой, безрадостной комнате, куда меня привели, слоняются те же три чиновника гестапо, которых уже видела на вокзале. Потом еще один, новый часовой приводит тебя. Гестаповские ищейки с явным интересом ожидают, как мы встретимся после столь долгой разлуки. Их любопытство непристойно.
Ты хочешь прижать меня к своей груди, хочешь меня поцеловать, но это подлое подсматривание подавляет проявление самого искреннего горячего чувства. Какое-то мучительное мгновение мы молча стоим друг против друга, потрясенные до глубины души, но только пожимаем один другому руки, настолько чувствуем себя униженными. По щекам моим текут слезы, в горле комок, не могу произнести ни одного ласкового слова. Ты тоже стоишь словно каменный. Один из трех парней, развалившись за столом, уставился на меня. Из-под кителя торчит полицейская резиновая дубинка. В эту минуту я не чувствую ничего, кроме ненависти. Ненависти и отвращения. Здесь, в штаб-квартире гестапо, где во всех коридорах кишат их агенты, готовые примчаться по первому свистку. Против беззащитной женщины и безоружного мужчины. К тому же их трое. Чиновники. Немецкие чиновники. «Какая низость!» — говорю я. Эти первые прозвучавшие здесь слова вырвались у меня непроизвольно. Я вовсе не хотела их произносить. Одна из сидящих тварей делает в блокноте стенографические пометки.
Тогда начинаешь говорить ты, сначала запинаясь, с трудом подбирая слова, делая мучительные паузы, словно тебе отказала память. Ты рассказываешь, как жестоко обращались с тобой в лагере Бук и его эсэсовцы. Не только с тобой, но и с многими другими товарищами, находившимися в Куберге. Со все возрастающим чувством страха слушаю твое страшное, беспощадное обвинение. Абсолютно исключено, что после этого они нас отпустят. Я перестаю тебя понимать. Я все сделала для нашего спасения. Твои обвинения здесь совершенно бесполезны. Больше всего я хотела бы зажать тебе рот. Но речь твоя теперь уже обращена не ко мне, внезапно ты кажешься мне совсем чужим со своим изможденным лицом и темными впадинами под глазами, у тебя вид замученного человека, который в этот момент говорит не о себе и не для себя, а просто взывает к человечеству. Но ведь здесь нет человечества, перед тобой только я. И три немецких гестаповца с резиновыми дубинками, мышиными лицами, пронизывающим взглядом. И старый стол, пустой канцелярский шкаф и несколько стульев. И портрет рейхсканцлера Адольфа Гитлера. Ах, мой Фред. Стенограф лихорадочно делает записи в блокноте. Будущий протокол того заслуживает. Уже сегодня рано утром, когда тебя выпустили из лагеря, говоришь ты, было ясно, что Бук снова заполучит тебя. Ибо, говоришь ты, он опасается твоих обвинений и разоблачений. Специалист по устранению беспокойных элементов, он окончательно расправится и с тобой, тебе это тоже было ясно. Но разделаться со мной, говоришь ты, ему будет вовсе не так просто, так незаметно, как прежде, не привлекая внимания общественности.