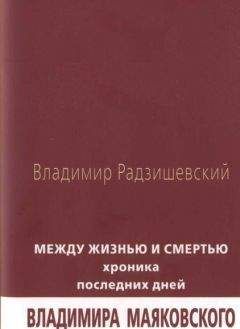О том, чему он стал свидетелем, Кольцов написал для вышедшего уже 17 апреля 1930 года объединенного номера «Литературной газеты» и «Комсомольской правды». В комнате Маяковского — следователь. Тело на полу. Кремовая рубашка распахнута, над левым соском — круглая аккуратная ранка. «Рот чуть-чуть приоткрыт… Белки глаз смотрят неподвижно, осмысленно».
Дежурного следователя Синева сменил народный следователь 2-го участка Бауманского района Иван Сырцов[66]. Из комнаты Маяковского он перебрался в квартиру напротив. И Павел Ильич Лавут увидел, как туда провели еле передвигавшую ноги Веронику Витольдовну Полонскую. За ней в Малый Лёвшинский отправился из МХАТа помощник директора Ф. Н. Михальский[67], привез ее в Лубянский проезд и здесь с рук на руки сдал следователю. К этому времени Агранова уже не было. Иначе, как считает Полонская, ее бы допрашивал он сам, а не какие-то серые сопляки из милиции. Впрочем, из ЦК Агранов мог и вернуться, потому что Лавут запомнил, как тот читал кому-то по телефону выдержки из показаний Полонской.
На площадке четвертого этажа газетчики расспрашивали о Маяковском соседей. Но днем в редакции поступит распоряжение никаких собственных материалов о смерти поэта не давать — печатать только сообщения РОСТА. До этого запрета успел выйти, кажется, лишь вечерний выпуск ленинградской «Красной газеты». Ленинградка Лидия Гинзбург[68] узнала о смерти Маяковского по дороге в Госиздат. «В ГИЗе, — записала она, — сама собой приостановилась работа, люди толпились и разговаривали у столов; по углам комнат, в коридорах, на площадках лестницы стояли в одиночку, читая только что появившийся вечерний выпуск. „Как в день объявления войны“, — сказал Груздев»[69].
Но это будет вечером. А пока до вечера далеко. «Между одиннадцатью и двенадцатью всё еще разбегались волнистые круги, порожденные выстрелом. Весть качала телефоны, покрывая лица бледностью и устремляя к Лубянскому проезду, двором в дом, где уже по всей лестнице мостились, плакали и жались люди из города и жильцы дома, ринутые и разбрызганные по стенам плющильною силой событья», — писал Борис Пастернак. Его по телефону известили о несчастье историк литературы Яков Черняк[70] и художник Николай Ромадин[71]. В полдень он их застал уже в парадном дома в Лубянском проезде. С ними была жена Пастернака — Евгения Владимировна[72]. «Она, плача, сказала мне, чтобы я бежал наверх, — продолжает Пастернак[73], — но в это время сверху на носилках протащили тело, чем-то накрытое с головой».
Самоубийство было манией Маяковского. Он думал о нем неотступно, грозился им и постоянно примерял его к себе. Художница Евгения Ланг[74] рассказывала в 1971 году Рудольфу Дуганову[75] и мне, как пятнадцатилетним подростком Маяковский внушал ей, что только самоубийством он может ответить на произвол своего рождения.
Впервые заглянув в комнатушку знакомой девушки, он выкрикнул:
— Как вы можете жить здесь? Это не комната, а гроб… Я бы здесь застрелился!
Минутное молчание.
— Упал бы и… не поместился!
А Лиля Брик свидетельствовала:
«Всегдашние разговоры Маяковского о самоубийстве! Это был террор. В 16-м году рано утром меня разбудил телефонный звонок. Глухой, тихий голос Маяковского: „Я стреляюсь. Прощай, Лилик“. Я крикнула: „Подожди меня!“ — что-то накинула поверх халата, скатилась с лестницы, умоляла, гнала, била извозчика кулаками в спину. Маяковский открыл мне дверь. В его комнате на столе лежал пистолет. Он сказал: „Стрелялся, осечка, второй раз не решился, ждал тебя“».
Еще одна попытка самоубийства отмечена в записной книжке Маяковского в следующем, 1917 году: «11 октября. 4 ч. 15 м. Конец». И снова была осечка. Патрон со следом от бойка Маяковский показывал Давиду Бурлюку[76].
Но еще раньше Маяковский начинает на все лады варьировать свою мечту о самоубийстве в стихах. В трагедии «Владимир Маяковский» (1913) он собирается погибнуть на рельсах:
Лягу,
светлый,
в одеждах из лени
на мягкое ложе из настоящего навоза,
и тихим,
целующим шпал колени,
обнимет мне шею колесо паровоза.
Не менее варварский уход из жизни придумывает Маяковский в поэме «Флейта-позвоночник» (1915):
Возьму сейчас и грохнусь навзничь
и голову вымозжу каменным Невским!
Но там уже выговорен и тот способ самоубийства, которому он отдаст предпочтение, и не раз:
Всё чаще думаю —
не поставить ли лучше
точку пули в своем конце.
А в запасе остается еще участь утопленника:
Теперь
такая тоска,
что только б добежать до канала
и голову сунуть воде в оскал.
Затем в поэме «Человек» (1916–1917) набор способов самоубийства отчасти повторен, отчасти пополнен:
Глазами взвила ввысь стрелу.
Улыбку убери твою!
А сердце рвется к выстрелу,
а горло бредит бритвою.
В бессвязный бред о демоне
растет моя тоска.
Идет за мной,
к воде манит,
ведет на крыши скат.
Чего здесь не хватает? Пожалуй, отравления. Но и до него дойдет очередь:
Аптекарь,
дай
душу
без боли
в просторы вывести.
Единственное, чего не хочет Маяковский, — видеть себя в петле. Зато эту смерть в стихотворении «Кое-что по поводу дирижера» (1915) он отдает своему персонажу:
Когда наутро, от злобы не евший,
хозяин принес расчет,
дирижер на люстре уже посиневший
висел и синел еще.
Параллельно Маяковский начинает отговариваться от самоубийства. Например, в стихотворении «Лиличка!» (1916):
И в пролет не брошусь,
и не выпью яда,
и курок не смогу над виском нажать.
И даже за два дня до гибели, уже приготовив предсмертное письмо, в пику ему записывает: «Я не кончу жизнь…» И всё впустую.
В стихотворении «Сергею Есенину» (начало 1926) Маяковский заставляет себя по всем пунктам осудить самоубийство. Самому Есенину адресовать эти стихи было поздно. Ясно, что автор обращает их к читателям. Но втайне уговаривает и самого себя.
Вскоре в стихотворении «Товарищу Нетте[77]. Пароходу и человеку» (июль 1926) Маяковский прямо заговорит о жажде героической гибели (конечно, в противовес затаившейся тяге к самоубийству):