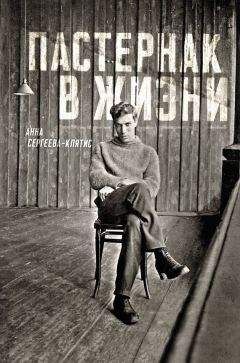III
«Страсть его к учению равнялась в нем только со страстию к добродетели»
И во время учебы в пансионе, и сразу после его окончания рядом с молодым поэтом был его родственник, кузен отца, один из самых просвещенных людей своего века, поэт, педагог, философ — Михаил Никитич Муравьев (1757–1807). Собственно пять лет после выхода из пансиона Батюшков не просто имел счастье постоянного общения с этим человеком, а жил в его доме и был фактически членом его семьи. В 1807 году он писал отцу о Михайле Никитиче: «Я могу сказать без лжи, что он меня любит, как сына, и что я мало заслуживаю его милости»[46]. «Это был дом в полном смысле просвещенного дворянского семейства, где отношения старших к младшим определялись духом гуманности и взаимопонимания»[47]. С этим постулатом исследователя невозможно спорить: в доме М. Н. Муравьева росли два сына, Никита и Александр — впоследствии самоотверженные деятели декабристского движения. Ориентация на высокие образцы — римские гражданские добродетели и греческую культуру — формировала внутреннюю атмосферу этого дома. Всеобщее увлечение современной словесностью и серьезное отношение к попыткам личного творчества делали пребывание в нем для Батюшкова особенно привлекательным. В письме своему другу Н. И. Гнедичу он описал характерный эпизод, который произошел во время его первой попытки служить. Службу поэт начал в канцелярии Министерства народного просвещения, подведомственного М. Н. Муравьеву, однако обязанности свои выполнял без всякого рвения. Непосредственный начальник Батюшкова решился пожаловаться на него Михайле Никитичу, «а чтоб подтвердить на деле слова свои и доказать, что я ленивец, принес ему мое послание к тебе, у которого были в заглавии стихи из Парни, всем известные:
Le del, qui voulait шоп bonheur,
Avait mis au fond de mon coeur
La paresse et l’insouctiance[48] — и прч.
Что сделал М. Н.? Засмеялся и оставил стихи у себя»[49].
М. Н. Муравьев, занимавший две высокие должности — товарища (заместителя) министра народного просвещения и попечителя Московского университета, по словам Л. Н. Майкова, «питал глубокое уважение к классическому образованию и притом уважение вполне сознательное, ибо сам обладал прекрасным знанием древних языков и литературы и в этом знании почерпнул благородное, гуманное направление своей мысли. Вместе с тем он был знаком с лучшими произведениями новых литератур, также в подлинниках. Мягкости и благовоспитанности его личного характера соответствовал светлый оптимизм его философских убеждений, и тою же мягкостью, в связи с обширным литературным образованием, объясняется замечательная по своему времени широта его литературного суждения: не будучи новатором в литературе, он, однако, с сочувствием встречал новые стремления в области словесности»[50].Л. Н. Майков не совсем прав, когда говорит, что в собственном творчестве Муравьев не был новатором. Но, учитывая сложную судьбу его произведений, которые вышли в свет гораздо позже, чем были написаны (автор сам отложил издание), а многие из них — даже после его смерти, нужно с сожалением признать, что его поэтический дар был для современников потерян. В истории литературы осталось несколько его стихотворений, одно из них, «Богине Невы» (1784), стилистически и интонационно легко соотнести с петербургскими главами «Евгения Онегина»:
Я люблю твои купальни,
Где на Хлоиных красах
Одеянье скромной спальни
И амуры на часах.
Полон вечер твой прохлады —
Берег движется толпой,
Как волшебной серенады
Глас приносится волной.
Ты велишь сойти туманам —
Зыби кроет тонка тьма,
И любовничьим обманам
Благосклонствуешь сама.
В час, как смертных препроводишь,
Утомленных счастьем их,
Тонким паром ты восходишь
На поверхность вод своих.
Быстрой бегом колесницы
Ты не давишь гладких вод,
И сирены вкруг царицы
Поспешают в хоровод.
Въявь богиню благосклонну
Зрит восторженный пиит,
Что проводит ночь бессонну,
Опершися на гранит.
Неслучайно Пушкин процитировал финал муравьевского текста в первой главе «Онегина» и сам прокомментировал эту цитату, отослав читателя к стихотворению «Богине Невы»[51]:
С душою, полной сожалений,
И опершися на гранит,
Стоял задумчиво Евгений,
Как описал себя пиит.
М. Н. Муравьев был единомышленником Н. М. Карамзина и И. И. Дмитриева и приложил немало усилий для утверждения в русской словесности нового слога, стихи его написаны в излюбленном Батюшковым ключе. Это — легкая поэзия (poesie fugitive). Однако для Батюшкова М. Н. Муравьев парадоксальным образом значил как поэт меньше, чем как воспитатель и философ. В письме «О сочинениях г. Муравьева» (1814) Батюшков приводит слова о нем Н. М. Карамзина, делая их своеобразным эпиграфом к своему тексту: «Страсть его к учению равнялась в нем только со страстию к добродетели»[52]. Оценивая сочинения своего наставника, в издании которых он принимал участие, Батюшков сообщил Н. И. Гнедичу: «Муравьева сочинения доказывают, что он был великого ума, редких познаний и самой лучшей души человек»[53]. Как видим, упоминание о поэтическом таланте отсутствует. Очевидно, блестящие идеи и нравственные убеждения Муравьева выражались в стихах, написанных устаревшим для Батюшкова языком, который уже не отвечал нормам вкуса нового поколения поэтов[54]. Однако нравственные уроки «любезного дядюшки» Батюшков усвоил на всю жизнь. «Пламенный идеалист Муравьев», как остроумно характеризовал его Л. Н. Майков, передал своему племяннику учение о врожденном нравственном чувстве, о суде совести, который для человека должен быть превыше всего, но главный урок был связан с эстетической концепцией Муравьева. В красоте, воплощенной в произведениях искусства, он видел нравственную силу, которая способна преобразить человечество, помочь личности преодолеть свой эгоизм и в служении добру найти гармоническое сочетание собственных интересов и общественного блага. Эта идея на время становится центральной в «маленькой философии» Батюшкова.
Сознательным стремлением Батюшкова было с помощью своей гармонической поэзии воздействовать на действительность, сделать ее подобной прекрасному, прежде всего античному образцу, а в конечном итоге — преобразовать до полного совпадения с ним. Это стремление эстетическими средствами изменить мир не позволяет говорить о Батюшкове как о приверженце «чистого искусства» — перед нами поэзия социальная, и отчасти даже гражданская, не тематически, но функционально. Свои личные успехи в сфере творчества, основываясь научении М. Н. Муравьева, Батюшков будет непосредственно связывать с пользой и славой Отечества. Выступая в Обществе любителей русской словесности в 1816 году с программной речью «О влиянии легкой поэзии на язык», Батюшков выскажет убеждение, чрезвычайно характерное для его эпохи. Искусство и поэзия играют в истории народа ничуть не меньшую роль, чем военные триумфы и политические победы. Больше того, слава государства напрямую зависит от степени просвещенности его граждан, от их умения чувствовать изящное. Обращаясь к своим слушателям, Батюшков призывает: «…Совершите прекрасное, великое, святое дело: обогатите, образуйте язык славнейшего народа, населяющего почти половину мира; поравняйте славу языка его со славою военною, успехи ума с успехами оружия»[55]. В своей речи Батюшков отмечает, что совершенная, гармоничная поэзия (а эти качества, по мнению Батюшкова, прежде всего присуши poesie fugitive) способствует нравственному и духовному развитию народа, обеспечивает ему славное будущее. Творческая установка поэтов круга Карамзина «пиши, как говоришь, и говори, как пишешь» в трактовке Батюшкова преобразилась в этическую норму: «живи, как пишешь, и пиши, как живешь» (статья «Нечто о поэте и поэзии», 1815) и осознавалась в контексте значимого для него прикладного значения поэзии. Батюшков предписывал стихотворцу особую «пиитическую диэтику», в соответствии с которой должна выстраиваться его жизнь. «Поэзия, осмелюсь сказать, требует всего человека, — писал Батюшков. — Иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы»[56]. Поэт, ведущий правильное — гармоническое — существование, способен создать столь же гармонические произведения. А они, в свою очередь, призваны смягчить и усовершенствовать язык народа, благотворно повлиять на его нравственность и в конце концов совершенно искоренить зло и привести к гармонии тот хаос, который поэт вынужден пока наблюдать вокруг себя.