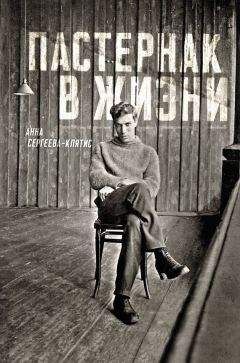Чего стоит один эпиграф к «Посланию» из Вольтера: «Sifflez-moi librement, je vous le rends, mes fréres» («Освистывайте меня без стеснения, я вам отвечу тем же, братья мои») Обращение «братья мои», относящееся к литераторам, и есть самое главное место в «Послании». Ощущение собственной принадлежности к цеху — доминанта ранних батюшковских текстов. Теперь дело оставалось за цехом, он должен был принять нового собрата по перу.
Разнообразные свободы, предоставленные обществу в начале александровского царствования, касались и литературных объединений, которые с 1801 года возникали повсеместно как грибы после дождя. Одним из них стало широко известное Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. Благодаря, с одной стороны, членству в нем Н. А. Радищева, сына великого отца, а с другой — мифологизирующему мышлению историков литературы сталинского времени[58], масштаб и значение Общества были сильно преувеличены, поэты, входившие в его состав, получили наименование «радищевцев», а их взгляды и творчество — эпитеты «прогрессивных» и «передовых». На самом деле общество было небольшим, состояло оно почти исключительно из молодых начинающих поэтов, среди которых выгодно выделялись такие «мэтры», как сотрудники Батюшкова по Министерству просвещения Н. И. Пнин и Д. И. Языков (им в то время было около тридцати). Кроме них, в общество входили А. X. Востоков, в будущем знаменитый филолог и лингвист, а пока поэт, экспериментирующий с народными тоническими размерами и занимающийся имитацией античной метрики; поэты средней руки И. М. Борн (впоследствии личный секретарь и наставник детей великой княгини Екатерины Павловны) и В. В. Попугаев (чрезвычайно эксцентричный человек, часто производивший на современников впечатление вдохновенного безумца); одаренный баснописец и сатирик А. Е. Измайлов. В то время все они находились в начале своего поприща.
Благодаря близкому знакомству с первыми лицами Вольного общества, Батюшков мог рассчитывать на благосклонный прием. В апреле 1805 года он сделал попытку войти в его состав, предложив в качестве «вступительного взноса» свой стихотворный перевод из Вольтера — сатиру «Послание к Хлое»[59]. Стихи были переданы на рассмотрение внутреннему «цензору» А. X. Востокову, который отозвался о них неоднозначно. Он и притормозил процесс принятия Батюшкова, предложив ему представить Обществу не перевод, а собственные оригинальные стихи, которых на тот момент в арсенале начинающего поэта, судя по всему, просто не было. А необходимым мастерством для сочинения текста «по заказу» он еще не обладал. Да и впоследствии таким качеством, как легкость пера, Батюшков не отличался: стихи писал подолгу, тщательно их правил, прежде чем отдать на суд читателя. Свою сатиру после почти трехмесячных тщетных надежд на положительное решение вопроса о его принятии в Общество Батюшков забрал и переделал, но новых попыток вступления не предпринимал. Очевидно, самолюбие его было жестоко задето. «Своим» молодые столичные поэты его пока не считали.
Конечно, представленная на суд Вольного общества сатира — текст еще совсем ученический, несовершенный, изобилующий формальными погрешностями, однако несомненно оказавший влияние и на зрелые произведения Батюшкова, который не забывал своих ранних опытов и тогда, когда достиг высокой степени мастерства. Среди элегий 1815 года, традиционно считающихся вершиной батюшковского творчества, одна — «Таврида» — написана с явной оглядкой на главную тему «Послания к Хлое». Это тема бегства от суеты света в скромную деревенскую хижину, куда герой призывает свою возлюбленную. Тема вполне традиционная для той эпохи, однако при создании «Тавриды» Батюшков охотнее цитирует себя, чем другие образцы.
Решилась, Хлоя, ты со мною удалиться
И в мирну хижину навек переселиться.
Веселий шумных мы забудем дым пустой:
Он скуку завсегда ведет лишь за собой, —
так начинается ранняя батюшковская сатира. Той же темой она заканчивается:
Сокроемся, мой друг, и навсегда простимся
С людьми и с городом: в деревне поселимся,
Под мирной кровлею дни будем провождать:
Как сладко тишину по буре нам вкушать!
В безупречной по всем формальным признакам «Тавриде» мы найдем буквальные совпадения с этим несовершенным текстом. Та же традиционная тема представлена здесь гораздо более развернуто, деревенская хижина приобретает античные черты, подробно и красочно описываются картины природы, но некоторые формулы остаются вполне узнаваемыми:
Друг милый, ангел мой! сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают
И Глебовы лучи с любовью озаряют
Им древней Греции священные места.
Мы там, отверженные роком,
Равны несчастьем, любовью равны,
Под небом сладостным полуденной страны
Забудем слезы лить о жребии жестоком;
Забудем имена Фортуны и честей.
В прохладе ясеней, шумящих над лугами,
Где кони дикие стремятся табунами
На шум студеных струй, кипящих под землей.
Где путник с радостью от зноя отдыхает
Под говором древес, пустынных птиц и вод;
Там, там нас хижина простая ожидает,
Домашний ключ, цветы и сельский огород,
Последние дары Фортуны благосклонной.
Вас пламенны сердца приветствуют стократ!
Вы краше для любви и мраморных палат
Пальмиры Севера огромной!
К чести Батюшкова надо прибавить, что полученный им удар по самолюбию не заставил его бросить занятия словесностью, хотя раздражение по отношению к А. X. Востокову он сохранил надолго[60].
II
«Певец их, Тасс, тебе любезный…»
В 1803 году в департамент народного просвещения на должность писца определился Николай Иванович Гнедич. П. А. Вяземский красноречиво описал его в своих воспоминаниях: «Гнедич, испаханный, изрытый оспою, не слепой, как поэт, которого избрал он подлинником себе, а кривой, был усердным данником моды: он всегда одевался по последней картинке. Волоса были завиты, шея подвязана платком…»[61] Гнедич к этому времени уже всерьез считал себя поэтом и гордился этим статусом. По словам Вяземского, «Гнедич в общежитии был честный человек; в литературе он был честный литератор. Да, и в литературе есть своя честность, свое праводушие. Гнедич в ней держался всегда без страха и без укоризны. Он высоко дорожил своим званием литератора и носил его с благородной независимостью. Он был чужд всех проделок, всех мелких страстей и промышленностей, которые иногда понижают уровень, с которого писатель никогда не должен бы сходить»[62].