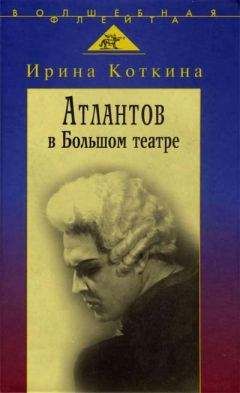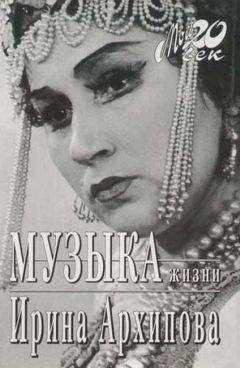В годы моей учебы стали бывать у нас на гастролях роскошные заграничные солисты: Рудольф Францл, Николай Гяуров, Димитр Узунов, Николо Николов, приезжали Джордж Лондон, Джером Хайнц, Гарбиас Зобиан, Зинаида Палли.
Кировский стал моим родным домом, начиная с Консерватории. С друзьями встречались по вечерам, шли «на прорыв» билетеров и дальше «рассасывались» по ярусам. Почти каждый день — в театре. Там я впервые услышал Гарбиаса Зобиана, Килико, Анджея Хиольского. Услышал, а потом и пел «Кармен» с феноменальным меццо-сопрано Зинаидой Палли.
Я ходил, слушал, смотрел, удивлялся. Жизнь моя была очень интересной в Консерватории, особенно до тех пор, пока у меня не начались вокальные проблемы да такие серьезные, что меня чуть не выгнали.
У меня голос отказывался идти кверху, не было верхних нот тенорового диапазона. Я воспринял это, как трагедию, и понял, что если не смогу преодолеть отсутствие верха, то я погиб.
— Значит у вас не было природной постановки голоса?
— Нет. У меня не было природной постановки голоса, и мое дыхание было неправильным. Если вы замечали, певцы, делающие большую карьеру, как правило, не поют в детстве и у них происходит нормальное, естественное развитие певческого аппарата, им легче начинать с азов установку певческого дыхания. А мне пришлось очень долго петь в хоре мальчиков. С шестилетнего возраста в Капелле мы все время пели какими-то вытянутыми голосами. У мальчишек ведь не было никакой постановки голоса. Нам развивали музыкальный слух, развивали интонацию, развивали музыкальность фразы. Но не было и речи о постановке правильного дыхания. Дыши, как хочешь! И навыки пения, которые были у меня для детского голоса, с которыми я пел 6 — 8 лет, перешли в мое послемутационное состояние.
— А в чем именно заключался дефект, мешавший вам брать верхние ноты?
— Я пел на поднятой гортани. Это наследие хорового пения. Я брал верхние ноты ключицами, не задумываясь о том, как это будет отражаться на моем голосе.
Проблемой был и мой небольшой голос. После ломки голос сделался довольно низким, несмотря на то, что до мутации я пел альтом, а не дискантом. Альт у мальчика — залог высокого голоса в будущем. Но я думал, что у меня — не тенор, а баритон. А когда начал заниматься профессионально, оказалось, что по масштабу, по силе звуковой волны мой голос — тенор, но не очень сильный, лирический. Меня же всегда тянуло на драму. Надо было думать о том, каким образом развить интенсивность звучания. И очень не сразу я довел голос до состояния, которое давало мне возможность петь любые драматические партии.
Я понимал, что если я не устраню свои недостатки, то мне придется опять переходить на хоровое отделение или становиться дирижером хора, потому что делать сольную карьеру я не мог. Единственное, на что я мог рассчитывать, — это быть в хоре театра. Я достаточно музыкален, могу вести группу теноров за собой. Все-таки я занимался с шести лет, быстро учу, правильно интонирую. Откровенно говоря, я настолько любил пение, то есть сам процесс звукоизвлечения, что я думал: «Господи, мне бы хоть в хор попасть, на сцену! Это уже было бы счастьем». Но я не мог смириться с неудачей.
— А каким именно способом вы стали бороться со своим вокальным недостатком?
— Сначала, когда я совсем не знал, что мне делать с моей гортанью, я просто подбородком ее опускал. Я нагибал голову, прижимал челюсть, обнажая нижние зубы, и таким образом опускал гортань. Но у меня сперва ничего не получалось.
Дело дошло до того, что меня вызвали к завкафедрой и сказали: «Еще один семестр с такими результатами и, Атлантов, к сожалению... Либо мы вас отчисляем, либо... Но вряд ли у вас получится...» Вот тут-то и наступил для меня мрак и ужас. Я стал пробовать различные способы улучшения этого верхнего регистра. Сам. Что я только ни делал, чего я только ни придумывал! Педагог мой мне бессилен был помочь. Он говорил то же, что и вся вокальная кафедра. То есть молчал.
Здоровый мужик, здоровый мужик... По фигуре я был похож тогда ну не на Шварценегера, но на атлета, я приходил домой и плакал. Просто плакал от бессилия.
Мама все видела и пробовала со мной заниматься. Она была замечательным педагогом, какие-то советы мне давала. Но что-то я как-то к этим советам... То ли я не понимал их тогда, то ли я считал, что мой организм особый. Я отдавал себе отчет о привычке моей гортани к звукоформированию, основываясь на несчастном опыте пения в хоре мальчиков, но не знал, как это исправить. И никто не знал.
В общем, работа моя была отчаянной, страшной, со слезами, с падениями, с взлетами. Я занимался дома, сам, когда мама была на работе, чтобы она все это не слышала. Просто орал изо всех сил разными способами, то есть пробовал все места в своем голосовом аппарате, чтобы определить, куда там что воткнуть, чтобы получилось именно так, как должно быть. Делая упражнения, я выстраивал свой голос, выстраивал место, помещение для него.
И вот в момент отчаяния, беспросветного отчаяния, я наткнулся на книжку, в которой был описан метод вокальной тренировки Карузо.
— Это была книжка 1935 года «Искусство пения и вокальная методика Карузо» в изложении двух авторов Фучито Сальва и Бейера.
— Не помню, по-моему, это было скорее дореволюционное издание на русском языке. Прежде всего я обратил внимание на упражнения на «у». Чтобы установить гортань в правильное положение, или в оперном просторечии «кадык» на верное место, я сначала пел на букву «у» быстрые упражнения: ноны (нона — это октава плюс секунда) от до до до октавы и ре, потом до, до, и от до до ля, а потом — эти же быстрые упражнения на все гласные. При этом формируется наиболее правильное и наиболее естественное положение гортани для звукоизвлечения.
Года через два после моей консерваторской «трагедии» у меня, наконец, кое-что получилось! Я прошел через слезы, через отчаяние, через Бог знает что. Сперва, когда я попробовал делать упражнения на «у», были лишь отдельные моменты правильного попадания, счастливого попадания в нужное место, счастливого запоминания этого места. Я старался их зафиксировать. Для этого нужно было иметь очень хорошую память — мышечную и особенно слуховую. Их обязательно нужно развивать.
— Вас все-таки не выгнали из Консерватории?
— Нет. Когда встал вопрос о моем исключении с факультета, я уже начал кое-что понимать. И минимальные, еле заметные положительные результаты у меня, благодаря Карузо, появились. В этот момент кафедра приняла решение перевести меня от Петра Гавриловича Тихонова в класс Натальи Дмитриевны Болотиной. Она — драматическое сопрано, пропевшая в Кировском театре весь крепкий репертуар.