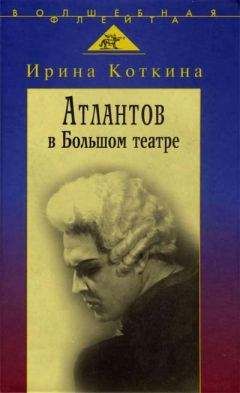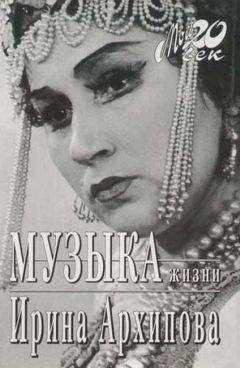Видимо, спев, я был в таком состоянии, что директор спросил у мамы, как она мне потом рассказывала: «Можно ли с ним разговаривать откровенно?» И только получив утвердительный ответ, сказал: «Молодой человек, ко мне в кабинет!»
Я, как во сне, зашел к нему, но вижу, что это не провал, уже ощущаю. Какие-то капилляры в моем теле, какие-то клеточки мне подсказали это. И директор подтвердил: «Молодой человек. Так вот. Я вас принимаю в театр. Вы будете получать 150 рублей. Когда вы найдете себя внутренне подготовленным к роли, которую выберете, вы мне скажете, мы вам дадим репетицию — оркестровую, сценическую, и вы будете петь. Но я бы хотел, чтобы вы как можно чаще бывали в театре, на всех оперных спектаклях». Я пролепетал какую-то благодарность.
Потом я стал ходить в театр. Там был, был, был, был и, не знаю отчего, выбрал Синодала. Видимо потому, что Синодал — это невысокая партия, недлинная партия, а я этого боялся.
Стали мне давать уроки сначала, потом дирижеру я все сдал, назначили оркестровую. Все нормально, спокойно, все артисты вокруг меня в костюмах, по сто раз пели этого «Демона». Сцена пустая, вот ужас, абсолютно пустая сцена и деревянные выгородки. Тут вот какая-то скала. Отсюда он выходит, тут он стоит, тут он ложится, тут он что-то поет и туда он уходит. Загримировали меня. Дали вот такую вот папаху, саблю, какой-то палаш настоящий, таких в театре ни-
когда и не было, откуда-то с фронта что ли принесли. Черкесску одели, бурку какую-то. Кошмар какой-то!
Но я до сих пор не знаю, отчего... Может быть, от страха. А может быть, я был нездоров, а я не знал еще, что это значит.
— Провалились?
— Нет, да нет, я не провалился. Я вышел, спел... Но спел так себе... Не сказать, чтобы плохо... Но после того, как я пел при приеме в Мариинку, это было просто на среднем уровне.
Потом, когда я со сцены ушел, мне сказали, что я к суфлеру обратился весьма раздраженно: «Вы что, все время будете со мной разговаривать?» Он мне сказал: «Я не разговариваю, это слова вашей партии». И тогда я ответил не без гордости: «Спасибо. Я партию знаю наизусть». Вот так!
Надо сказать, что именно в это время, в июне или в июле, балет Мариинки выезжал на гастроли. И на этих гастролях Рудик Нуреев остался работать за границей. А в те времена было принято за такое снимать головы. Директора Коркина сняли с работы. Меня принимал именно он, и после его ухода у меня начались нелады с администрацией. Она не скрывала своего отношения ко мне, что, может быть, сочеталось с честолюбием других артистов. Я был каким-то лишним в театре.
Вышло так, что с новым начальником я поругался. В театре был заведующий режиссерским управлением, который позволил какое-то резкое, грубое высказывание в мой адрес, а я находился среди артистов и, естественно, ответил ему прямо, очень непосредственно. Когда сместили Коркина, этот зав. режиссерским управлением на время стал заведовать оперной труппой и вообще театром. И вот после своего несчастного «Демона» я как-то прихожу в театр, подхожу к доске, где висят расписания, приказы... Ну и там висит все, что полагается.
Убрали меня из театра, и начался пятый курс, оказавшийся для меня наиболее значительным в начале карьеры. Тогда-то я и спел свои первые настоящие роли в Оперной студии при Консерватории.
Какой это был зал! У меня просто нет слов. Прежде это была итальянская опера, которую сами итальянцы и построили: с зеркалом во всю стену зрительного зала, с ложами, облицованными специальным деревом для лучшей акустики. А для потолка было привезено из Венеции особенное стекло. Был там не глухой потолок, а звонкий хрустальный купол. Итальянская опера, одним словом.
Мне было 22 или 23 года, когда я спел три партии, одну за другой, в очень короткий период времени: Ленского, Альфреда и Хозе. Я имел тогда первый театральный успех и понял, что могу быть настоящим оперным певцом. Конечно, успех растет не на пустом месте. Вы знаете, сколько консерваторий было в Союзе? Знаете, сколько театров? Знаете, сколько человек каждый год кончало консерватории и музыкальные училища? Тьма! А становились заметными солистами единицы. Я убежден, что все зависит от воспитания, от того, как человек себя ведет, как он поворачивает голову, словом, от определенных врожденных способностей и адской работы.
Удача — это труд и везение. Я просто трудяга. Я решил, как будет, — и вперед, шашки наголо, в плен не брать, назад не отступать. Наверное, мое достоинство в умении концентрировать все силы на чем-то одном. А кроме того, не забывайте, что я пришел в оперный мир уже очень музыкально подготовленным. Я с шести лет трублю в музыке. К моменту поступления в Консерваторию у меня уже была развита не только очень хорошая музыкальная память, но и музыкальный вкус. То, на что у других уходило очень много времени, занимало у меня гораздо меньше благодаря той счастливой случайности, что я в музыке с шести лет. Поэтому-то я и говорю, что моя жизнь — это сплошное везение.
— А вы помните ваш первый спектакль, самый первый?
— Да. Это был «Евгений Онегин». В Питере проходил какой-то городской фестиваль, в котором участвовали творческие вузы, в частности Консерватория делала молодежный спектакль. Я попал в хор в оперу «Евгений Онегин». В ту пору я еще был студентом, кажется, второго подготовительного, нет-нет, уже первого курса Консерватории. Когда на мне был грим, когда я костюм надел в первый раз, я трепетал, вибрировал. Станцевал какой-то вальс, то ли мазурку с какой-то девочкой на балу у Лариных.
Потом поднялся занавес, хор поклонился. Это был мой первый поклон на сцене. Счастлив был, конечно, безумно: костюм, грим, сцена, рампа. Тот первый выход на сцену в хоре для меня так и остался — самым-самым. И ощущение, что вот оно, начинается! Наконец-то, наконец-то, я выйду на сцену в гриме и костюме! Это чувство осталось со мной и по сей день. Тогда мне было 20 лет. Так я попал на сцену. Очень просто. У меня все и всегда в жизни происходило очень просто.
— А какой спектакль был первым, когда вы уже стали солистом?
— Тоже «Евгений Онегин». Я был Ленским. Я вообще не верил, что спою. Все было, как в тумане. Костюм и грим у меня был тогда самый традиционный, постановку эту я видел много раз. Но когда мне пришлось петь самому, я все увидел как будто впервые и только одна мысль стучала в голове: «Мать честная, допеть бы мне до конца спектакля!» Я думал, что мне голоса не хватит.
Вообще, чтобы понять, как партия устраивается в моем певческом организме, я ее выучивал и пел подряд, сцену за сценой, залпом все свои куски: арии, речитативы, дуэты без партнеров, сжимая четыре акта в 20-30, 40-50-60 минут. И это мне давало представление о моих вокально-физических возможностях. Если у меня не выходило сразу, но я чувствовал, что в перспективе роль может получиться, я над ней работал, спрессовывая партию в один кусок времени. Я всю жизнь потом готовил свои роли именно так.