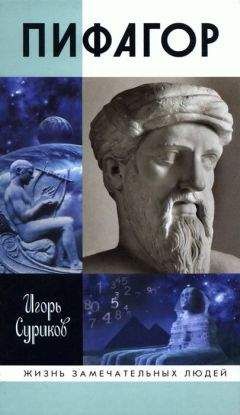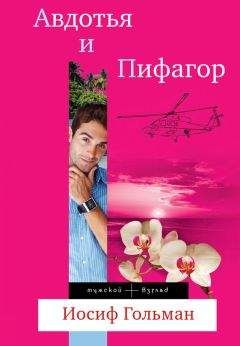Однако, кажется, конкретно Пифагору мы не вправе приписывать с полной уверенностью подобные воззрения. Обратим внимание, что из описываемых им перевоплощений своей души все — совершенно разные. Сын Гермеса, троянский воин, какой-то Гермотим (чудотворец?), делосский рыбак, наконец, он сам, Пифагор, самосский аристократ и интеллектуал. Что тут общего?
У Порфирия говорится еще о Пифагоре: «Многим, кто приходил к нему, он напоминал о прошлой их жизни, которую вела их душа, прежде чем облечься в их тело. Сам он был Евфорбом, сыном Памфа, и доказывал это неопровержимо» (Порфирий. Жизнь Пифагора. 26).
Евфорб-то нам уже знаком, но обратим внимание на то, что, согласно данному указанию, Пифагор знал не только «генеалогию» своей собственной души, но и другим мог рассказать, кто был кем в прошлой жизни. Отчасти ясно теперь, на чем основывался его сверхъестественный авторитет. А с другой стороны — современному человеку сразу приходят в голову некие цыганки и прочие гадательницы, которые за умеренную плату охотно расскажут любому желающему, что с ним было и что с ним будет… И отношение к ним у любого здравомыслящего человека — соответствующее. Но не пароксизм ли это чрезмерно, утрированно развитого у людей нашего времени рационализма?
О том, что Пифагору будто бы было открыто проникновение в тайну судеб и иных людей, говорит также Ямвлих: «Но главной Пифагор считал заботу о людях, которая была необходима, чтобы предвидеть будущие обстоятельства и об остальном учить правильно. Ибо он очень живо и ясно помнил множество случаев из своих прежних жизней, которые прожила когда-то давно его душа, перед тем как была заключена в это тело, и с помощью несомненных доказательств утверждал, что он был Эвфорбом… Он запомнил свои прежние воплощения и поэтому стал заботиться о других людях, припоминая, какие прежде они прожили жизни» (Ямвлих. Жизнь Пифагора. 14. 63).
Выше упоминалось о том, что Пифагор якобы мог общаться с животными или, по крайней мере, претендовал на то, что может. И это, между прочим, звучит вполне органично в контексте внедрявшейся им системы представлений. Если душе за свое бессмертное существование суждено побывать то в телах людей, то в телах животных, то из этого следует вполне естественное заключение, что в животных, окружающих нас, кроются души когда-то живших людей. Стало быть, общение возможно!
Эту сторону учения Пифагора хорошо уловил, например, Ксенофан. В самом начале книги цитировалось четверостишие этого поэта, в котором он (безусловно, юмористически) описал случай, будто бы происшедший с Пифагором: тот, увидев, как бьют щенка, попросил не делать этого: в щенке-де душа его бывшего друга.
Юмор — юмором, но, если вдуматься, в учении подобного рода заложен огромный гуманистический заряд. Утверждая, что всё живое родственно друг другу (хотя бы таким образом, за счет «скитаний душ»), древнегреческий мудрец на две с половиной тысячи лет предвосхитил мысли одного из великих людей XX века — нобелевского лауреата Альберта Швейцера, врача и философа (Швейцер, кстати, тоже был глубоко верующим человеком).
И вот еще о чем хотелось бы сказать. Абсолютно того же рода взгляды существовали тогда же в расположенной на много тысяч километров восточнее Индии. И были там не исключением, как система Пифагора в Греции, а нормой. Разительное сходство пифагорейской теологии со старинной индуистской (воспринятой и буддизмом) теорией о карме и сансаре настолько бросается в глаза, что, разумеется, не могло не привлечь внимания ученых.
Напомним, карма (в брахманистском, индуистском, буддийском и т. д. понимании) — общая сумма совершённых всяким живым существом поступков и их последствий, которая определяет характер его дальнейшего существования в цепи перерождений. А сама эта цепь перерождений — и есть сансара. В рамках этого учения отрицается смерть как некая противоположность жизни, она становится лишь неоднократным переходом от одной стадии к другой в рамках постоянно продолжающейся жизни. Сансара обусловлена кармой. Словом, «хорошую религию придумали индусы», — как пел Владимир Высоцкий.
Но ведь ровно то же самое можно сказать не только о пресловутых индусах, но также о Пифагоре и пифагорейцах. Аналогия, повторим, настолько полная, что просто нельзя не поднять вопрос: заимствовал ли Пифагор свою идею метемпсихоза с далекого Востока или же следует говорить о самостоятельном, независимом развитии?
С одной стороны, со всей возможной определенностью можно сказать: в Индии соответствующий круг воззрений зародился раньше, чем в Греции. Пифагор жил позже первых брахманов-богословов. Но, с другой стороны, это еще ничего не значит. Согласно известному правилу логики, post hoc поп est propter hoc — «после» еще не означает «вследствие».
А тут нужно еще учитывать, насколько огромными пространствами отделены долины Инда и Ганга от берегов Эгейского моря. Контакты между Элладой и Индией просто не могли быть ранними и активными. Впервые греки узнали что-то достоверное об индийских землях, в сущности, только в результате походов Александра Македонского в IV веке до н. э. Ведь великий полководец присоединил к своим владениям и часть Индии.
А до того представления об этой стране были вполне превратными. Не имели понятия ни о ее настоящих размерах (думали, что она значительно меньше, чем есть в действительности), ни о ее подлинном географическом положении (считали, что это — самая восточная страна мира, за которой уже ничего нет — только «край земли» и далее плещут волны Океана).
Где нет надежного знания — там возникает благодатная почва для разного рода побасенок и апокрифов. Достаточно почитать то, что пишет об Индии, например, Геродот (сам «отец истории» там, конечно, не бывал и опирается на рассказы персидских купцов).
«…В их земле есть песчаная пустыня, и в песках ее водятся муравьи величиной почти с собаку, но меньше лисицы… Муравьи эти роют себе норы под землей и выбрасывают оттуда наружу песок… Вырытый же ими песок — золотоносный, и за ним-то индийцы и отправляются в пустыню. Для этого каждый запрягает в ярмо трех верблюдов, по бокам — верблюдов-самцов, которые бегут рядом, как пристяжные, а в середине — самку-верблюдицу… В такой верблюжьей упряжке индийцы отправляются за золотом с тем расчетом, чтобы попасть в самый сильный зной и похитить золото. Ведь муравьи от зноя прячутся под землей… Когда индийцы приедут на место с мешками, то наполняют их золотым песком и затем как можно скорее возвращаются домой. Муравьи же тотчас, по словам персов, по запаху почуяв их, бросаются в погоню… Так вот, верблюдов-самцов (те ведь бегут медленнее самок и скорее устают) они отвязывают в пути и оставляют муравьям (сначала одного, потом другого). Самки же, вспоминая оставленных дома жеребят, бегут без устали» (Геродот. История. III. 102—105).