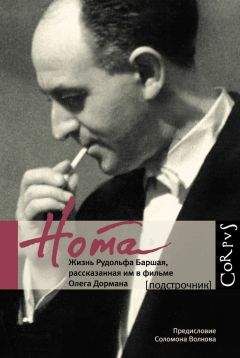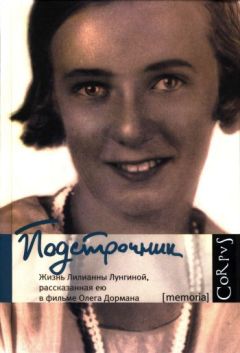Из письма А. Локшина Р. Баршаю, 1986 г.
Дорогой Рудик!
Скоро наступит первое десятилетие после нашей последней встречи. Слава богу, у Вас как будто бы все получилось, как об этом мечталось. Ваши записи Шостаковича и сэра Типпетта, а также и другие — выше всяких похвал. Я же ничем не могу похвалиться, кроме двух инфарктов и одного инсульта. Во всем прочем моя биография смахивает на жизнь растения. Все, что составляло радость при нашем общении, сгинуло, осталась пустыня. Не буду больше издавать скорбных стонов по поводу своих болезней.
Вам же желаю всего самого лучшего, чего может пожелать самый преданный друг.
Привет всем Вашим близким. А. Л.
Вскоре Локшин умер. Умер мой дорогой друг, учитель, советчик, собеседник. Может, тут, на Западе, его бы спасли. Помню, как посылали отсюда компламин, самое обычное лекарство, — в Москве не было. Оно требовалось срочно, я купил, погнал на машине в Базель, упросил швейцарского летчика взять лекарство с собой. Но не помогло оно, поздно было. Локшин оказался прав: мы никогда не увиделись после моего отъезда. Но я никогда и не расстался с ним. Хотя его отсутствие ощущаю и сейчас так же остро, как отсутствие Шостаковича и моих родителей. Мне так был нужен его совет, когда я работал над Десятой Малера, я столько раз мысленно обращался к нему за помощью!
Я много раз играл музыку Локшина после его смерти, видел успех, предназначавшийся ему, и вернулся в Россию с гастролями в первую очередь для того, чтобы сыграть его «Реквием».
Когда студентом я играл в оркестре Большого театра, один тамошний валторнист заканчивал дирижерский курс у Гаука. На экзамене он решил продирижировать Симфонию Кончертанте и попросил меня сыграть на альте. В перерыве мы все вместе курили, и Гаук спрашивает его: «Когда уйдешь из Большого?» Тот отвечает: «Не могу я уйти, Александр Васильевич, у меня семья, а в театре хорошие зарплаты». И Гаук ему сказал: «Не имеет значения. Уходи или пропадешь, тебя засосет эта серая масса. Пока ты играешь в оркестре — ты не дирижер. Запомни: дирижер и оркестранты — классовые враги».
Я запомнил эти слова. Я был не согласен с ними тогда, не согласен и теперь. Оркестр — это восемьдесят или сто талантливых личностей. Не будь они талантливы — не занимались бы музыкой. У каждого своя мера одаренности, свой путь, кто-то занимался больше, а кто-то ленился, кто-то самоотвержен, а кто-то разочарован, но все они талантливы. У каждого из них есть свое представление о том, как играть музыку, которую вам предстоит исполнять. Дирижер приходит для того, чтобы объединить их способности и навязать свою волю. Это так, даже если это не соответствует духу демократии и не нравится профсоюзам. Но тем более уважителен должен быть дирижер по отношению к музыкантам. Он не имеет права сердиться. Они — имеют. Ты не знаешь, что происходит у них дома, в семье, в каком настроении они легли вчера и встали сегодня утром, но должен никогда не забывать: перед тобой — личности, живые люди, а не наемники с инструментами.
Бывает трудно. Ведь встречаются люди обидчивые, которых любое замечание дирижера оскорбляет. Ты просишь его сыграть потише или побыстрее, а он идет жаловаться в дирекцию. Ты показываешь ему правильный штрих, а он отвечает, что он — скрипач-виртуоз. Хуже того: встречаются люди без чувства юмора, хотя среди музыкантов это редкость.
Важно и то, что у разных музыкантов разная восприимчивость. Некоторым требуется больше времени, чтобы добиться результата, чем другим. Дирижер должен быть на стороне более медленных. Нельзя понукать. Надо привести к результату всех. Уверенно, но уважительно вести за собой. Дирижировать так, я уже говорил, чтобы каждый из музыкантов думал, что ты дирижируешь именно для него. В руках должны отражаться все голоса. Если контрапункт, то понятно, какие голоса, а если не контрапункт, то все равно голоса существуют. Гобой должен видеть, что вы для него дирижируете, а скрипки — что для них. Как это достигается — объяснить нельзя, потому что если кто это чувствует, то он — рожденный дирижер. Если он этого не чувствует, то научить этому, я думаю, нельзя.
Здесь все важно, даже осанка, глаза, взгляд. Но руки, конечно, первое дело. Важно, чтобы в них была певучесть, чтобы руки пели, тогда и музыканты поют. Хорошие музыканты исключительно чутки к рукам дирижера и отвечают замечательно. Когда хорошие музыканты. Но искусство дирижирования состоит не в том, чтобы красиво размахивать руками. Это многим удается. Важнее всего в конечном счете личность дирижера. Все музыканты, и я сам в том числе, чувствуют, кто имеет право вести за собой, а кто нет.
Мое отношение к оркестрантам вовсе не означает, что в оркестрах нет людей неприятных и нерадивых. Но им как раз неплохо живется, и чаще всего именно их интересы защищает профсоюз.
Отношения дирижеров с профсоюзами — любимая тема музыкантских анекдотов. Хотя на самом деле все это не так уж весело. Помню, когда Андрей Волконский узнал, что Московский камерный берут в филармонию, он с тоской спросил меня: «И профсоюз учредят?» Кусевицкий решил покинуть Россию, когда после революции в его оркестре учредили профсоюз. В Советском Союзе профсоюзы были, конечно, декоративными — какой может быть профсоюз у крепостных? Чаще всего власти использовали их против самих же работников. Помню смешную историю с дирижером Файером в Большом театре. На его репетициях оркестранты болтали, травили анекдоты, ходили. Замечательный дирижер, но справиться с ними не мог. Директор театра устроил профсоюзное собрание. Вышел наш профорг, гобоист из Азербайджана, и сказал: «Так дальше не пойдет, граждане. Безобразие, понимаешь. Когда дирижер на палка стоит — надо, чтоб сразу тишина был». Влепили музыкантам. Ладно, они говорят, будет полная тишина. На следующее утро Файер приходит на репетицию — все сидят за пультами и молчат. Полная, гробовая тишина. Смотрят на него, ждут указаний. Файер говорит: «Ну, давайте репетировать». Тут кто-то с задних рядов ехидно: «А мы уже начали». — «Бросьте хохмить, работать надо». Все молчат. Файер смотрел-смотрел на них недоверчиво, потом как шарахнет кулаком по партитуре:
«Прекратите дурака валять! Давайте работать!» Ну, бывают дирижеры, которые любят в шуме работать. Я, например, не могу. С тех пор шума на его репетициях действительно не было, а если кто начинал выступать — подходили два громилы-тубиста и тихо выводили: такое решение принял профсоюз.
На Западе профсоюзы очень влиятельны, ссориться с ними опасно. Как всякая организация, они созданы для того, чтобы отделить правила от личностей. Но, как во всякой организации, это получается не вполне.