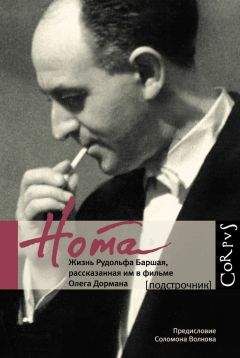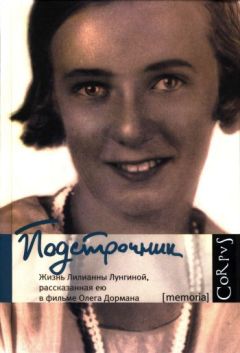На Западе профсоюзы очень влиятельны, ссориться с ними опасно. Как всякая организация, они созданы для того, чтобы отделить правила от личностей. Но, как во всякой организации, это получается не вполне.
Как-то раз в перерыве репетиции молодой кларнетист попросил меня помочь с одним трудным пассажем. Мы позанимались четверть часа, все у него получилось, пошли вместе в буфет. В дверях остановил инспектор оркестра:
«Извините, маэстро, перерыв будет продлен на пятнадцать минут, потому что репетиция с оркестрантом считается репетицией со всем оркестром». Ну что же. Именно этих пятнадцати минут нам потом не хватило, чтобы отработать заключительную часть. С точки зрения какой-то правовой логики я мог бы понять эту историю. Но художественная работа не поддается логике.
Когда-то Голованов, изгнанный из Большого театра, приходил на репетиции БСО за полчаса до начала. Стоял у пульта, работал с партитурой, готовился. Музыканты это заметили и тоже стали приходить раньше. В один прекрасный день весь оркестр сидел на своих местах за полчаса до официального начала репетиции. Голованов поднял голову от партитуры, увидел их и говорит: «Ну что же, раз все собрались — начнем». С тех пор репетиции начинались на полчаса раньше. Но и заканчивались раньше на полчаса.
У меня тоже есть привычка приходить чуть пораньше, чтобы проверить партии, сосредоточиться. Однажды я пришел так в американский оркестр. Появился инспектор: «Маэстро, простите, но вы не должны приходить до начала репетиции, я не имею права вас впускать». Я собрал ноты и вышел в коридор, встал рядом с ним. Он смотрел то на часы, то в пол, то на часы, то в пол. Мне было его жалко. Было что-то в этой ситуации бесчеловечное, противоестественное, Кафке бы понравилось. И Свифту, пожалуй, тоже. Я очень люблю Свифта, часто перечитываю. Наконец стрелочка подошла, и точно в ноль-ноль секунд он открыл передо мной дверь: «Прошу!»
В Германии разрешается репетировать пять часов в день с перерывом. Но если мы записываем — только четыре часа. Почему? Объяснение такое: на записи музыканты больше выкладываются. Во Франции репетируют максимум четыре часа с большим перерывом, но если дирижер работает не со всем оркестром, а с отдельной группой — то только два с половиной часа. Почему? Во время отдельной репетиции группы музыкант больше устает. А на общей репетиции якобы меньше. Мне в связи с этим вспоминается, как в Куйбышеве судили второго скрипача квартета, который отказался играть концерт, потому что первый скрипач квартета заболел. Директор филармонии говорил: «А почему вы не можете сыграть втроем? Я регулярно бываю на ваших концертах и вижу, что часто кто-нибудь из четверых молчит. Так перепишите, чтобы этих пауз не было, а играли бы трое».
Часто лучшие дирижеры для оркестрантов те, которые меньше репетируют. В результате исполнение может быть и чистеньким, и точным, но все равно оставляет впечатление высококвалифицированной игры с листа. Знаете, у японских музыкантов исключительно высокая техника. Я бы сказал, гениальная техника. Но они остаются на уровне обывателя. Их перфекционизм не включает чего-то главного и невыразимого, что составляет существо музыки. Может, в самом деле снобизма не хватает?
Великие дирижеры — Клемперер, Фуртвенглер, Караян, Вальтер — были великими воспитателями музыкантов. Они никогда не выходили на концерт с одной репетиции. Благодаря их работе в мире до сих пор существуют первоклассные оркестры. Да, бывает, приходит к музыкантам дирижер, который заставляет их повторять по сто раз, не имея никакой определенной цели. А просто: остановил — играем снова. Тут только профсоюз и может защитить. Но важна мера. Как говорил великий философ Фрэнсис Бэкон, которого я очень почитаю, не приписывайте народу чрезмерное благоразумие — он зачастую противится собственному благу.
Свобода и права — очень важная вещь. Но эти понятия не описывают всю жизнь человека и человечества. Если невежество и безвкусица, пользуясь равными правами, сведут искусство к приятной безделушке, то зачем трудились и страдали наши предшественники? Чего стоит каждый из нас, если обменяет свои личные обязанности на то, чтобы слиться с толпой?
Мне больно от того, что я уехал из своей страны. С этим чувством свыкаешься, но оно не проходит. Я всегда ощущал и сейчас ощущаю себя человеком из России, я всей душой желаю ей добра. И притом думаю, что мое решение уехать было правильным. Я уезжал не за благополучием. Мне хотелось сделать в музыке все, что я должен. Здесь я мог работать и мне не запрещали ничего играть: я хотел Хиндемита — я играл Хиндемита, я хотел играть Стравинского — я играл Стравинского. Очень часто, между прочим. Особенно полюбил его «Аполлона Мусагета», он написан для струнного оркестра. Струнный оркестр мне легче всего дается. Ну, потому что, так сказать, это моя стихия. Я дошел даже до «Весны священной», «Весну священную» продирижировал. Никто ничего не запрещал, все мне разрешалось. Если говорить по существу дела и очень серьезно, это было самым главным.
Когда я был председателем международного конкурса дирижеров имени Тосканини, меня попросили написать все оркестры, с которыми я работал, — я, признаюсь, сбился со счету.
Минус был такой. Помимо разлуки с дорогими людьми, невозможности быть рядом, когда я мог бы пригодиться, помочь, самый тяжелый минус тот, что мне пришлось для отъезда бросить выпестованный мною камерный оркестр, превосходный ансамбль прекрасных музыкантов. Равного ему я не встретил за всю долгую историю и обширную географию моих выступлений.
Однажды, спустя много лет после отъезда, я слышал Московский камерный в Париже. Это было очень, очень для меня странно. Это был уже не мой оркестр, не мой звук. А встреча с ребятами, с музыкантами была, конечно, волнующая. Несколько человек пришли ко мне на радио, на репетицию — я с Национальным оркестром Франции готовил Девятую симфонию Бетховена, которую мы потом исполняли в Сен-Дени. Ребята сидели, слушали. Мне было трудно.
В следующий раз мы встретились с ними в девяносто третьем году в Москве, когда меня пригласили на гастроли. Я не играл с ними, просто встретились. Было еще немало людей из первого состава. Хотя уже и немного. В те дни я как будто перемещался между концертами и кладбищами. Москва показалась мне обезлюдевшей и серой. Потом-то появилось много рекламы, огней, тогда не было. И все равно, признаюсь вам, когда я сошел с трапа в Шереметьеве, у меня было желание поцеловать землю. Но я не Папа Римский — воздержался.
На тех гастролях я играл Девятую Малера с БСО и Missa Solemnis Бетховена с Российским национальным оркестром, Лена исполняла партию органа. Первый концерт в Большом зале вышел прекрасным, и у меня было чувство, что я встретился с той же самой публикой, которую оставил в семьдесят седьмом году. Но при этом я думал о людях, которых уже не могло быть в зале, хотя для меня они все-таки были. Последнего моего дорогого соратника, Рихтера, не было тогда в Москве, но очень вскоре мы встретились в Японии, чтобы сыграть вместе. Как оказалось, в последний раз. Это были три концерта Моцарта. У Заболоцкого есть стихи, знаете: «И теперь он, известный поэт, хоть не всеми любимый, и понятый также не всеми…» Заканчиваются они так: