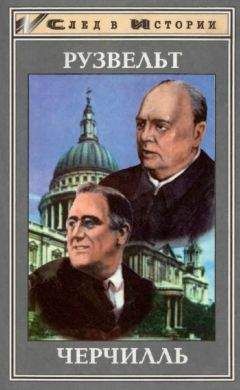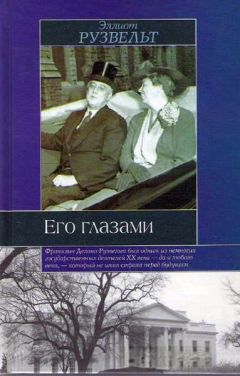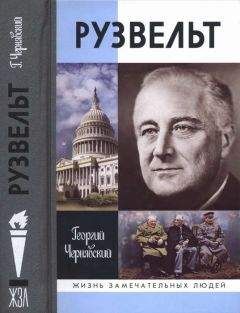До сей поры для историков остается загадкой, что было причиной того, что начиная с 1930 года, то есть на подготовительной фазе Женевских переговоров по разоружению, Европу захлестнула волна военной истерии, которую ни в коей мере нельзя связать непосредственно с подъемом национализма в Германии. Так что Черчилль был не одинок, когда в 1931 и 1932 гг. перед лицом апокалипсического видения массовых уничтожающих налетов бомбардировочной авиации требовал прекратить опасную болтовню о разоружении, а вместо этого заняться собственным вооружением. Он говорил более откровенно, когда назвал «гигантские вооружения» Советского Союза (1931) и «германский реваншизм» (1932) очагами опасности, а пацифистов из Лиги Наций — ослепленными болванами. Он упрекал правительство Макдональда в упущениях в области вооружения военно-воздушных сил, хотя за них в первую очередь нес ответственность и сам бывший министр финансов с его политикой экономии средств.
Вопреки легенде, которая здесь уже вносит только хронологическую путаницу, захват Гитлером власти почти не оказал влияния на внешне- и внутриполитическую аргументацию Черчилля, хотя теперь его высказывания в адрес откровенно «недружественного» правительства стали еще более резкими. Вспоминая 1932 год, когда его предостережения звучали с наибольшим драматическим накалом, он признавался: «Тогда у меня не было никакого национального предубеждения против Гитлера. Я был почти не знаком с его политическими идеями, с его карьерой и не знал совсем ничего, что это был за человек». Совершая свое тогдашнее путешествие по Германии, он, по слухам, даже охотно познакомился с «барабанщиком» и грозой коммунистов, а его сын Рандолф пошел еще дальше: он поздравил Гитлера по телеграфу в июле 1932 года по поводу его успеха на выборах в рейхстаг. Верно и то, что победа Гитлера в январе 1933 года заставила действовать тех сторонников вооружения, ведущим рупором которых был Уинстон Черчилль и которые теперь получили возможность настаивать на окончании конференции по разоружению и на возобновлении собственного масштабного вооружения. Уже по этой причине для Черчилля — как и для Ванзиттарта — постоянное разоружение Германии было абсолютно нереалистической целью, так как по их убеждению, «она в действительности никогда и не разоружалась». Амбиции немцев были известны; не Гитлер смоделировал их, а они смоделировали Гитлера. Ему, фигуре, созданной германским реваншизмом, «пленнику массовых страстей этого самого прилежного, самого дисциплинированного, самого воинственного и мстительного народа на земле» было лишь поручено завершить то, что Штреземан и Брюнинг подготовили дипломатией и тайным вооружением. В 1932 году — так Черчилль думал еще многие годы спустя — нужно было крикнуть «Стоп!».
Черчилль предвидел ход этого развития как нечто неизбежное не потому, что он «знал немцев» или «видел Гитлера насквозь», а потому, что он был приверженцем социал-дарвинистского исторического фатализма, который практически не оставляет никакой альтернативы. «Мир, — говорил он посетившему его Генриху Брюнингу в сентябре 1934 года, — занят только борьбой за господство». И добавил: «Германия опять должна быть побеждена, и на этот раз окончательно. Иначе Англия и Франция не будут знать покоя». Когда он спустя два года беседовал об этом с военным министром Дафом Купером, оба были едины в том, что в принципе и Штреземан не хотел никого другого, кроме Гитлера, и что против «германской опасности» существовало только одно средство: упущенная в Версале возможность разделения рейха. Более поздняя позиция Черчилля по немецкому вопросу, его отношение к немецкому сопротивлению, как и его представления о европейском устройстве после второй мировой войны, останутся неясными, если не учитывать его всегда неизменного отношения к немецкой проблеме. Гитлер был для него опасен не потому, что он был Гитлером, а как историко-логическое выражение немецкой воли к самоутверждению, «данной самой природой» «самой сильной державе континента». Как индивидуум Гитлер представлял для него неизвестную трудно воспринимаемую величину, не имевшую отношения к тому, что называлось «пруссачеством», скорее даже неуместную; даже в самый разгар войны он не воспринял Гитлера всерьез, хотя и называл его «дьяволом во плоти», он оценивал его не иначе, как «маленького ефрейтора», оседлавшего тигра германского национализма. Неизбежными как природное явление представлялись ему побуждение и натиск этого народа, вулканическая энергия которого не раз потрясала мир в его основах.
Черчилль считал, что «с силами природы невозможно справиться с помощью искусства политики или дипломатии», которые он и без того не особенно ценил. Поэтому он в течение десяти лет своей внешнеполитической деятельности не сделал ни одного усилия, чтобы договориться с немцами по-мирному, как равный с равными. Подобного рода умозрительные рассуждения были, по его глубокому убеждению, такими же ненужными и вредными, как и тщетные усилия, направленные на разоружение; они вселяли в общественность только нереальные надежды и ослабляли его готовность вооружаться. Чтобы собрать воедино нацию, распавшуюся в междоусобной борьбе, и, опираясь на ее единство, направить все усилия на вооружение, не следует скрывать от нее всей серьезности ее положения. Прежде всего она должна с полным отсутствием иллюзий и со всей трезвостью понять, что Германия в настоящее время представляет собой актуальную опасность для всей Европы, и Англия ни в коей мере не сможет избежать этой опасности. Для того чтобы избежать новой войны, по его убеждению, имелся лишь один путь: как можно быстрее форсировать британское вооружение авиации, которое смогло бы уберечь территорию страны от прямого нападения и военно-политического шантажа; в то же время Англия должна осознать свою задачу стать краеугольным камнем и ведущей державой Великого альянса, который смог бы замкнуть вокруг Германии, как единственно возможного потенциального агрессора, железное кольцо. Эти идеи Черчилль пропагандировал, почти ничего не изменяя в них, в своих многочисленных выступлениях как в парламенте, так и вне его. Он повторял это в интервью и газетных статьях, издававшихся во всех частях мира. Таким он видел свой вклад в «духовную блокаду Германии». К этой работе он хотел привлечь и других, к примеру французского писателя Андре Моруа, которому он советовал в конце 1935 года оставить писательскую деятельность, а вместо нее писать ежедневно но одной статье на одну и ту же тему — например, об опасности, исходящей от военно-воздушных сил Германии; он считал, что для любого француза в это время не могло быть ничего актуальнее. Сам он старательно следовал этому правилу, вызывая у читателей своими бесконечными повторениями негативную реакцию, в результате чего воздействие на читательскую аудиторию ослабевало.