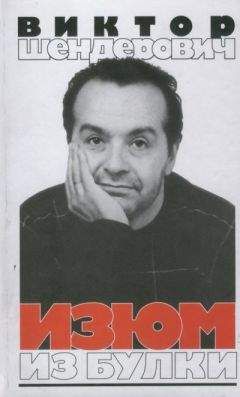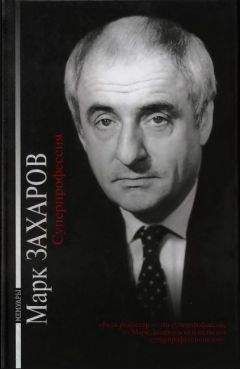Ознакомительная версия.
Тут маленький Мартын повернулся к лейтенанту и спросил:
— Дима, сколько в тебе росту?
— Метр восемьдесят семь, — ответил Дима. И Мартын сказал:
— Вот весь — иди на хуй!
…Когда в доме Гердтов имели в виду кого-нибудь послать, то вместо мата задавали этот невинный вопрос:
— Сколько в тебе росту?
И человек понимал, что он уже идет — весь…
Дело было во Львове, в конце семидесятых. Маргарита Алигер, прибывшая на Западную Украину по линии Союза писателей, покупала в комиссионном магазине сервиз.
Попросила завернуть.
Немолодая продавщица сообщила, что сервиз, безусловно, завернет — если Алигер сама сходит в хозяйственный магазин и купит оберточную бумагу с веревкой. Алигер намека не поняла и пошла за веревкой. Купила пару метров бумаги. Вернулась в комиссионный. Продавщица кое-как упаковала фарфор и молча двинула его по прилавку в сторону покупательницы.
Уровень сервиса был очевидно занижен — даже по сравнению с советским, но Алигер и тут намека не поняла и, будучи целиком погружена в хозяйственные нужды, спросила, нет ли в магазине какого-нибудь мальчика, чтобы донести покупку до гостиницы.
Тут, наконец, продавщицу прорвало.
— Последний мальчик, — громко уведомила она крупную советскую поэтессу, — уволился в тридцать девятом году, когда вы нас освободили!
Шла решающая партия матча Ботвинник — Бронштейн за звание чемпиона мира.
Ботвинник записал отложенный ход, и целую ночь потом его друг и секундант, гроссмейстер Сало Флор, анализировал позицию, ища пути к выигрышу…
Наступил день доигрывания. Вскрыли конверт. Там рукой Ботвинника был записан ход, не имевший никакого отношения к тому ходу, над которым всю ночь ломал голову его друг и секундант.
Михаил Моисеевич признался ему в этом только перед самым выходом на доигрывание, и Флор заплакал.
— Извини, Соломончик, — сказал Ботвинник, выйдя со сцены. — Никому нельзя доверять…
Разошедшись со своим учеником во взглядах на сталинизм, Ботвинник впоследствии начал подвергать Каспарова критике и по другим направлениям. Дошло и до принципиальности в национальном вопросе.
— Я ведь тоже мог взять фамилию матери! — возмущался Михаил Моисеевич. — Но ведь не взял!
— А как фамилия вашей матери? — неосторожно поинтересовался кто-то.
Оказалось: Рабинович.
Звонок. Застенчивый мужской голос.
— Простите, вы меня не знаете, ваш телефон дал мне Александр Володин…
Имя Володина — пароль, на который нельзя не отозваться,
— Слушаю вас, — говорю.
— Тут такая глупая ситуация, — виновато бубнит трубка, и становится слышно, как там, на другом конце провода, человек переживает неловкость своего звонка. — Я в Москве, у меня украли деньги… Не хватает на билет. Я сразу, как приеду домой, верну.
Рекомендация Александра Моисеевича делает отказ невозможным.
— Разумеется! …
— Буквально сто рублей…
— Ну, о чем речь!
Договариваемся о встрече. При встрече я силком впихиваю в незнакомую руку вместо ста рублей двести. Немолодой разночинец (тип сельского учителя) от двухсот сначала отказывается в некотором даже ужасе, но потом ужас превозмогает и деньги берет. Затем несколько раз повторяет слова благодарности и довольно сильно волнуется насчет скорости возвращения долга. Он готов послать деньги в день приезда, но нужен мой почтовый адрес.
— Отдайте Александру Моисеевичу, — говорю я, млея от собственного ума и благородства. — А я потом у него возьму.
— Да? — радуется человек. — Хорошо. Я — завтра же! На прощанье он совершает в мою сторону несколько поясных поклонов. Я взаимным образом кланяюсь в адрес нашего общего друга, великого драматурга Володина. Действие происходит на троллейбусной остановке, и публика с интересом наблюдает за сеансом этого невыносимого человеколюбия.
Через пару недель звонит Татьяна Александровна Гердт.
— Витя! Я хочу вас предостеречь. Вам будет звонить человек от Володина, просить денег…
— Уже.
— И вы дали?
— Разумеется.
— Витя! Это жулик!
…Немолодой разночинец с лицом сельского учителя взял деньги у Табакова, взял у Юрского, взял у Камбуровой, взял в «Современнике», взял в театре «Сатирикон», взял у вдовы Зиновия Гердта и вдовы Михаила Львовского. Ни один человек ему не отказал, и каждый норовил дать денег побольше. Отсвет володинского благородства сиял на челе тихого жулика, ослепляя окружающих.
Вот что такое — репутация.
И вот что такое — психологический расчет.
Володин. Утро восьмидесятилетия
Отмечать его, в самой доверенной компании, драматург начал уже накануне. Впрочем, вполне трезвым в поздние годы Александр Моисеевич уже не бывал, а незадолго до смерти перестал даже-закусывать…
В последний раз я видел его за месяц с небольшим до смерти. Володин лежал на кушетке, а рядом на столике стоял графинчик с водочкой и стопка. Время от времени Александр Моисеевич отпивал из стопки, как отпивают лекарство.
В каком-то смысле это и было ему лекарством.
Никакого блюдечка, хоть с кусочком сыра, на столике замечено не было.
Но это — уже совсем перед концом, а за два года до этого, в день своего восьмидесятилетия, Володин, с вечера теплый, был разбужен в восемь утра звонком в дверь.
— Кто? — спросил он.
— Телеграмма, — ответили из-за двери.
— Положите в почтовый ящик, — попросил Володин.
— Не могу, — ответили из-за двери. — Это телеграмма от президента России!
Полуголый классик приоткрыл дверь; прячась за ней, через порог, черкнул корючку в почтальонской книжке — и втянул внутрь простыню кремлевской телеграммы, с двуглавым орлом и вензелями.
— И вот, — рассказывает Володин, — я стою в трусах в коридоре и читаю: «Дорогой Александр Моисеевич! Вы зпт выдающийся российский драматург зпт автор пьес и сценариев к кинофильмам двтч фабричная девчонка зпт пять вечеров зпт…»
— Представляете? — сказал Володин. — Президент России с утра напомнил мне, кто я!
Мой приятель, журналист Георгий Елин, работая над материалом об Астафьеве, с классиком подружился. И как-то раз Виктор Петрович позвал его в гости к своему приятелю, там же, в красноярской Овсянке…
Ознакомительная версия.