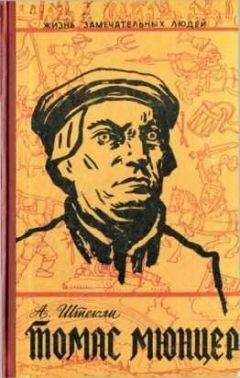— Кто ты?
— Я болен. У меня лихорадка…
Слуга, может быть, и не тронул бы Мюнцера. Его выдали письма. Возле кровати валялась сумка с бумагами, которую он имел обыкновение всегда таскать с собой. Он не потерял ее даже во время битвы: она висела у пояса на надежном ремне. Жадный слуга набросился на сумку. Письма, письма, целая куча писем. Видно, важная птица прячется на чердаке! Он позвал хозяина. Тот стал внимательно разглядывать бумаги. Вдруг ему на глаза попались послания, которые Альбрехт Мансфельдский направлял в лагерь восставшим.
— Откуда у тебя эти письма?
Он молчал. Его поволокли поближе к свету.
— Да ты никак сам Мюнцер!
Отто фон Эппен расхохотался. Редкая удача! Сто флоринов, верные денежки, которые граф Эрнст сулил за поимку лжепророка, нежданно-негаданно оказались у него в кармане.
Его усадили, на скамейку посреди комнаты. В дверь ломилась толпа любопытных. Рыцари и ландскнехты окружили пленника тесным кольцом. Шумные, злорадные, они наперебой засыпали его руганью и насмешками. Это он-то, воитель божий с мечом Гедеона! А где его рать? Что же он не явил чуда и позволил восторжествовать врагам? Неужто его, ясновидца, подвел дух святой? Или он оглох и не расслышал божьего голоса? Сам сатана напевал ему свои песни!
Они смотрели на него, как на зверя, на опасного зверя, которого, наконец, упрятали в надежную клетку. Удачливый Отто фон Эппен чувствовал себя героем. Если бы не он, то лжепророк мог улизнуть! Они издевались над пленником до тех пор, пока за ним не прислали князья.
В покое, куда его привели, было просторно. Писец у своего пюпитра, телохранители подле двери и в удобных креслах — сами триумфаторы: крепкий, с красноватым лицом и холеной бородой Георг Саксонский, непоседливый Генрих Брауншвейгский и совсем еще молодой ландграф с умными, колючими глазами.
Не нарушая молчания, все они долго и внимательно разглядывали Мюнцера. Потом ему предложили сесть. Первым заговорил герцог Георг. Ну вот он, Мюнцер, и добился, чего хотел: тысячи несчастных людей полегли костьми на бранном поле. В чем виноваты перед ним бедные крестьяне, что он так жестоко их обманул, затуманил рассудок своим лжеучением и толкнул на верную гибель?
О, эти сердобольные владыки! Чем тратить слова на елейные речи, они бы лучше остановили своих мясников, которые превратили город в сплошную бойню!
Чего они хотят от него: покорности, раскаяния? Ждут, что он бросится на колени и начнет молить о пощаде? У вас не хватит палачей! Даже если вы будете сдирать с Мюнцера кожу, вам этого не услышать! Или вы думаете, что он станет оправдываться и, надеясь на снисхождение, валить все на неправильно понятых ветхозаветных пророков?
Человек в разодранной одежде, с разбитой головой и запекшейся в волосах кровью не похож на робкого пленника. Сурово и непримиримо смотрит он на князей. Скорбеть он может только о поражении, а не о собственной судьбе. Слова его звучат вызовом. Он упрямо повторяет, что поступал правильно, а намерения его были до предела ясны: он хотел покарать князей, попирающих Евангелие.
Он осмелился занести кулак на законных правителей? Ландграф перебивает Мюнцера. Зря тот ссылался на Евангелие, когда изрекал свои кощунства. Писание учит, что власть надо почитать, ибо она от бога, а господь запретил мятеж и всякое возмущение.
Ландграф, как видно, тверд в вопросах веры. Он легко и просто усвоил главное: его власть от бога, и поэтому люди обязаны ему покорностью. И какая еще нужна другая вера? Разве ландграф забыл истинные заветы господа? Нечестивые правители, угнетающие народ, должны быть истреблены! Филипп пускается в спор. Ему нужны библейские свидетельства? Мюнцер сыплет текстами из Ветхого завета. Ландграф ожесточается: он, слава богу, знает, в чем суть писания! Филипп вытаскивает принесенный с собой Новый завет и читает оттуда кусок за куском. Покорность и смирение — вот что отличает христианина от язычника.
Знакомая песенка! Ландграф не порвал еще окончательно с римской церковью, а уже залез по уши в мартинову похлебку. Смирение, прежде всего смирение! Мюнцер ничего не хочет об этом слышать.
Пусть сами князья со своим доктором Люгнером сидят в вонючем навозе смирения!
Его наглое упорство поразило их. Пора бы Мюнцеру одуматься и во всеуслышание заявить, что не кто иной, как сам дьявол, побудил его затеять мятеж.
Сатану пусть они оставят себе! Мюнцер повысил голос. Это они, князья, его верные прислужники! А он, Томас Мюнцер, отстаивал святое дело и ни на миг не раскаивается в совершенном. Если он у них в лапах, то это совсем не значит, что он собирается трусливо скрывать свои намерения. Да, он не жалел сил, чтобы поднять народ на борьбу. Он считал и считает, что все люди должны быть равны. Князей же и господ, которые противятся этому, следует изгнать и убить!
Дерзость этого крамольника была поистине безумной. Мюнцер не боится князьям в глаза говорить такие вещи, что другим и слушать-то страшно. А ведь он в руках у тех именно людей, кого он, называя тиранами, призывал истреблять. Они знают, на что способна эта кровавая бестия, — будь его власть, он бы беспощадно расправился с господами! Пример тому — горькая участь подданных графа Эрнста. Их казнили по приказу Мюнцера.
— По твоей это воле, — спросил герцог Георг, — в прошлую субботу в лагере мятежников умертвили троих?
— Не по моей воле, а по справедливости господней!
— Ты отдал приказ рубить им головы?
— Приговор слугам Эрнста Мансфельдского вынес я от имени общины.
Князья переглянулись. Он не очень-то пытается себя выгораживать. Ну, а что было бы, если все пошло так, как он хотел?
Мюнцер молчал. Взгляд его темных, глубоко запавших глаз был обращен куда-то вдаль. Скорбные складки бежали к подбородку от краешков упрямо сжатых губ. Он словно очнулся:
— Намерение мое — его одобряли мои товарищи — было таково: занять земли вокруг Мюльхаузена, занять земли Гессена…
Он закончил решительно и жестко:
— Все должно стать общим! Каждый человек будет все по потребности получать от общины! А с князьями и господами, которые мешают этому, надо поступить именно так, как я говорил, — повесить их или обезглавить.
Веселую же долю уготовил он князьям! А что ждет тех, кто соглашается принять новые порядки? Крестьяне объявят их братьями, разделят все их имущество и даже благородных коней не оставят прежнему властителю?
Нет, пусть дворяне, которые согласны присоединиться к восставшим, не пугают себя разными страхами. Если им немыслима жизнь без свиты, то можно потакнуть их привычкам: князю оставить восемь лошадей, графу — четыре, а простому дворянину хватит и пары.