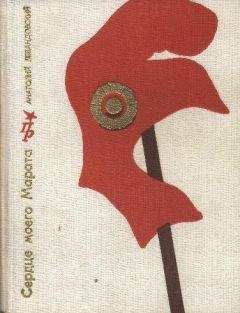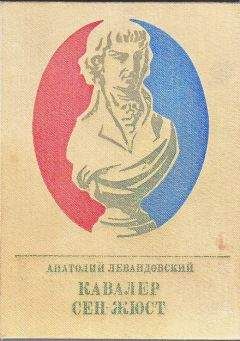— Мама, мамочка!..
Мое казалось, что я схожу с ума. Голова не вмещала всего ужаса, всей чудовищности происходившего. Я смотрел и не видел, слышал и не понимал; чтобы убедиться, что это не сон, я исщипал себе руки…
Мейе исчез — толпа оттеснила и поглотила его.
Но рядом были Луиза с малышом, и это меня спасло. Я опомнился.
Чувствуя ответственность за двоих беспомощных детей, которых узнал всего лишь несколько часов назад, япроявил чудеса расторопности и сметки. Прижав к себе маленького Жана, схватив за руку его сестру, я стал продираться сквозь море смятенных людей. Куда? Разве бежать в любом направлении не значило приближаться к смерти?
Нет. По каким-то признакам, в которых трудно было дать отчет, вероятно прежде всего потому, что оттуда не стреляли, я узнал в национальных гвардейцах, стоявших у Военной школы, если не друзей, то сочувствующих. И я бросился туда. Оказалось, это поняли и многие другие петиционеры. К Военной школе устремился сплошной поток.
Интуиция нас не обманула. У Военной школы стояли люди, отнюдь не разделявшие кровавого опьянения крючников рынка и прислужников из аристократических кварталов. То были гвардейцы Сент-Антуанского предместья, старые французские гвардейцы, которые некогда соединились с народом под стенами Бастилии, поддержала патриотов в октябрьские дни и отказались стрелять по приказу Лафайета 18 апреля. Они и сегодня не стреляли.
Вот только бы добраться до них…
Между тем залпы прекратились. Неужели все? Я вздохнул с облегчением и ускорил шаг.
Увы! Успокаиваться было рано. Закончилось только первое действие кровавой драмы, чтобы подготовить сцену для второго.
До сих пор конные гвардейцы спокойно стояли по углам поля. Но кровавый зуд не давал покоя их рукам, В общей вакханалии убийств они должны были взять свою долю. И теперь пехотинцы галантно уступали им поле деятельности.
Действительно, едва прекратилась стрельба, как эти доблестные герои с криками и свистом, обнажив сабли, бросились в толпу беззащитных.
Я не хочу и не могу описывать дальнейшее. У меня и сейчас нет сил для этого. Скажу лишь, что это было еще страшнее, чем начало. Люди кружились по полю, плохо соображая, что происходит и что их ждет. Сабли свистели в воздухе. Удар, крик, и все… Конные гвардейцы дошли до такого остервенения, что гонялись за теми, кому удавалось вырваться из общего клубка, а если жертва избегала копыт их лошадей — швыряли сабли в ноги…
Я с упорством отчаяния тащил моих подопечных к цели. Она была уже близка, когда мимо нас промчался гвардеец. Все решали доли секунды. Я увидел, как сабля сверкнула в луче заходящего солнца, и понял, куда она опустится. Я заслонил Луизу своим телом. Удар пришелся по руке, и гвардеец полетел дальше. Не почувствовав боли, я сделал последнее усилие. Солдаты у Военной школы расступились перед нами. Вместе с потоком счастливцев, избежавших смерти, мы бросились в открывшуюся брешь…
* * *
…Тишина, царившая вокруг, казалась неестественной. Я сидел на каменной приступке полуразвалившегося здания, а Луиза тщательно перевязывала мне руку куском полотна, оторванным от ее нижней юбки. Маленький Жан сидел рядом; он устал, зевал и просился домой. Спокойная, мирная картина, почти буколическая идиллия. Девушка чуть-чуть улыбалась и укоризненно покачивала головой.
Вы тоже улыбаетесь, мой милый читатель?
Улыбайтесь на здоровье. Ведь трагическое и трогательно-нежное часто находятся рядом.
Да, вы угадали, я полюбил Луизу.
Я проводил ее до дому и познакомился с ее близкими.
Потом мы часто встречались.
А еще потом она стала моей женой.
Но это произошло много позже. И это не имеет ни малейшего отношения к моей повести о Марате.
* * *
Я застал его сидящим у окна. Его голова была туго стянута белой косынкой. У рта залегла складка скорби. Он едва взглянул на меня.
— Ты ранен?..
— Пустяки, учитель.
— А Мейе?
— Я потерял его в толпе.
Мы замолчали. О чем было говорить? Вероятно, он все знал. Я хотел было спросить его о здоровье, но понял, что сейчас это будет неуместным. Мы сидели молча, пока не спустилась тьма.
Тогда пришел Мейе.
Он был цел и невредим. Ему удалось выбраться немного позже, чем нам, и после того он побывал еще кое-где.
Света мы не зажгли, и только уличный фонарь бросал тусклые блики на стены.
— Они решили напоследок применить артиллерию, — рассказывал Жюль. — Была бы яркая картина, представляете, алтарь Отечества, развороченный ядрами национальных гвардейцев?.. Но господин Лафайет не допустил этого. Как всегда, он кончил красивым жестом: когда канонир зарядил орудие, генерал заслонил жерло корпусом своего коня…
— Тартюф! — пробурчал Марат.
— Все кончилось около восьми. Потом они хотели разгромить Якобинский клуб. Робеспьеру удалось скрыться — его приютил один патриот…
— А Дантон, а все наши? — спросил я.
— Они еще днем укатили в Фонтенуа, к тестю Дантона… Ничего не скажешь, благоразумные молодые люди…
— Подлые трусы! — отрезал Марат.
— А вы помните, что писал в своем «Ораторе» Фрерон 15 июля? — Мейе вытащил из кармана скомканный листок и, подойдя к окну, прочитал: — «…Верьте, если Лафайет прикажет расстреливать безоружный народ, его солдаты — солдаты отечества — тотчас же сложат оружие, как сделали это 18 апреля. Кроме того, кто не умеет умирать, тот недостоин быть свободным…» — Мейе бросил листок: — И после таких-то речей?
— Жалкий паяц! — припечатал Марат и своего любимца, хозяина квартиры, в которой мы находились.
Он встал.
Тут я рискнул спросить:
— Учитель, зачем вы покинули постель?
Он ничего не ответил, только посмотрел на меня, и, если бы было светло, я прочитал бы, наверно, в его взгляде: «Сгинь, ничтожество!»
Потом он медленно прошелся по комнате. И сказал!
— Ну, вот и все. Вы не верили мне. Вы убедились. Но какой ценой?..
Еще раз прошелся и сказал:
— Не станем проливать бесполезных слез. Негодяи будут наказаны — ни один из них не избегнет справедливого возмездия. А народ станет благоразумным. Несмотря на все мои предупреждения, он верил этим лицемерам и пройдохам. Что ж, теперь его вера расстреляна на Марсовом поле, расстреляна навсегда. Это не пройдет бесследно. Теперь народ — или я ничего не понимаю в революции — поднимется и будет бороться до тех пор, пока кровь его матерей, отцов, братьев, сестер и детей не окажется отмщенной!..
Он стоял у окна, скрестив руки на груди. В отблеске уличного фонаря его глаза сверкали. Он казался в этот момент подлинным библейским пророком.