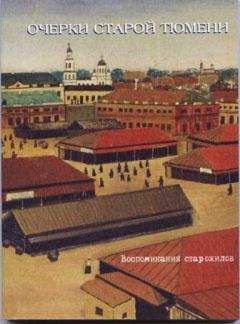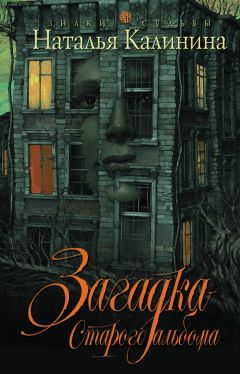Вот чем силён и непобедим этот народ — своей страстной привязанностью к земле, морю, солнцу, обычаям, могилам предков, храмам и… правительству!!![634]
…Были ли в армии Куроки[635] магические зеркала? Враги наши действительно обладали тремя «волшебными дарами»: беззаветной любовью к родине; храмами, в которых души предков следят за жизнью каждого из живых; презрением к смерти. Ведь японец не умирает, а продолжает жить в своих потомках. И раз в году, в день праздника огней, его душа отпускается на землю. И он незримый три дня живёт среди своей семьи полной земной жизнью.
Когда нами были взяты первые пленные, то офицеры с любопытством приказывали их раздевать. У каждого на шее или в потайном кармане находился мешочек с землёю. С той самой, которая даже не всегда могла прокормить его досыта. Но это была земля обожаемой Родины, политая потом многих поколений. У каждого находили и «табличку» — узенькую чёрную дощечку (с золотой жилкой вокруг), исписанную иероглифами. Это были имена целого ряда предков. Не немые слова, но живые души, глаза людей дорогих, близких, всюду сопровождающих воина. Они шептали ему в минуту страшной опасности: «Мы с тобою, мы охраняем тебя. Но если Великий решит призвать твой дух к себе, то имя твоё впишется вслед за нашими и эта священная табличка навсегда останется в храме. И в праздник огней ты со славой и гордостью пролетишь над родной землёю».
С такими взглядами на долг и религию могли бояться смерти японец? В находимых у погибших и пленных письмах встречаешь одни и те же слова матерей и жён: «Простившись с тобой, мы остаёмся совершенно спокойными. Мы знаем, что ты не посрамишь своего рода и каждую минуту будешь готов отдать жизнь за родину…» Фразы варьировались, но нытья, слёз, тоски по ушедшим на войну мужчинам не было никогда.
Можно привести прощальную речь капитана Яширо от 19 февраля 1904 года, обращённую к командам первых брандеров[636] «Гекокумару», «Пукумару» и других, отправлявшихся на ночное блокирование выхода 1-й Тихоокеанской эскадры России из гавани Порт-Артура: «…От имени отечества я требую исполнения невыполнимой задачи. Я посылаю вас, может быть, на верную гибель. Если бы я имел единственного сына, я велел бы ему занять место рядом с вами. И если бы император дозволил мне стать во главе предприятия, я с гордостью и счастьем исполнил бы это. Но я могу только выпить с вами последнюю чашу воды и сказать вам — идите с надеждой исполнить свой долг, но без мечты возвратиться…»
Яширо взял в руки кубок, присланный наследным принцем, наполнил его водой из родного источника,[637] и вслед за ним все офицеры и моряки по очереди испили чашу. 24 февраля 77 добровольцев под командой Орима под страшным огнём русских береговых батарей на всех парах неслись к узкому входу в гавань. Не дойдя до цели, все брандеры были уничтожены. 3 мая японцы в третий раз повторили эту безумную попытку с таким же ужасным для них результатом.
Пусть каждый русский участник последней печальной бойни скажет, имел ли он ясное представление о войне, когда попал на неё? Шёл ли он с тем, чтобы отдать свою жизнь во славу Родины? Тот же Яширо напутствовал воинов, уходивших блокировать Порт-Артур: «…Если у тебя оторвут правую руку — дерись левой. Если потеряешь обе — дерись ногами. Потеряешь ноги — дерись зубами и головой. Но ни одну секунду не думай о личных страданиях…»
А у нас? Рыдания, слёзы, письма, надрывающие душу мольбы… И что могла сделать хотя бы и безумная храбрость тех русских, которые действительно считали себя воинами и сынами своего отечества? И при чём тут магические зеркала Куроки?..[638]
В Варшаве, извещённый телеграммой из Вены, Надежду Александровну встречал сын Борис. Со времени их последнего свидания в Херсу прошло больше полугола. После четырёхмесячного отдыха в семействе Вейнбергов в Петербурге и у родственников в Петровцах Борис Викторович вернулся в родной полк. Произведённый в подполковники по армейской пехоте за участие в военной кампании[639], в гвардии он получил очередное звание капитана и был назначен командиром 4-й роты 1-го батальона[640]. Мать и сын провели вместе три счастливых дня, не предполагая, что эта встреча окажется последней в их земной жизни…
На следующий день по прибытии в Петербург Н. А. Лухманова отправила телеграмму единственному близкому ей в столице человеку — Ольге Штейнфельд: «Фонтанка 140, квартира 4. Очень хочу видеть. Жду страстную субботу до 12»[641]. Едва приехав, она уже куда-то спешила (после двенадцати), словно заметив, что в песочных часах её земной жизни струился теперь не обычный, а, увы, золотой песок…
Писательница сняла маленькую уютную квартирку на Ямской[642], где в окружении изящных китайских и японских безделушек принялась за обработку литературного материала, прибывшего багажом из Харбина и привезённого ею из Японии.
С начала мая на первых полосах «Петербургской Газеты», а с июня и «Петербургских Ведомостей» стали появляться её многочисленные репортажи о «Стране восходящего солнца»[643], воспоминания и рассказы о Маньчжурии[644], философские китайские сказки[645], социальные статьи о протестах общественного самосознания[646], инициировавших массовый террор против власти вообще и, как следствие, разгул бандитизма и погромы по всей России. Но стареющая писательница изменила бы себе, перестав интересоваться с высоты своего богатого женского прошлого взаимоотношением полов, хотя бы и с позиций нравоучительного, а вовсе не чувственного толка…[647]
На созыв 1-й Государственной Думы Надежда Александровна откликнулась серией публикаций в «Петербургской Газете»[648], пеняя российскому обществу:
…В революционном движении женщин арестовывали, ссылали и даже вешали наравне с мужчинами. Но её право избираться в Думу не признало ни одно из сословий[649]; …только в чёрном теле русский мужик был безопасен. И вдруг крестьянские представители потребовали в Думе «земли и воли»[650]; …растворяясь в народе, недовольные язвами жизни окрашивали горечью обид, протеста, требований наше общество. К какому пожару пришли мы теперь? Привычки молчать, гнуть шеи стали невозможны. С Манифестом 17 октября система зажима рта с критикой правительства должна рухнуть…[651]
Последнее в своей жизни лето Надежда Александровна провела в дачном Павловске, наблюдая вечный праздник веселящейся и ничего не желающей знать о революционных событиях столичной пресыщенной публики. «…В местном театре шла репетиция старой и чуждой теперь пьесы. В зал ползла беспросветно-серая тоска кошмара „Авдотьиной жизни…“[652]