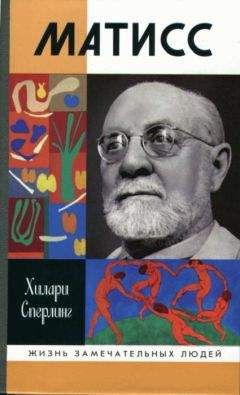Летом 1912 года Матисс закончил большую картину, начатую в Исси, на которой изобразил себя и жену. Сюжет «Разговора» был позаимствован у каменной стелы в Лувре (ассирийский царь приветствует сидящую на троне богиню): Амели в черном халате с зеленым воротом восседает в кресле у окна гостиной, выходящего в их сад, а он сам, в полосатой пижаме, стоит с другой стороны. Картина словно иллюстрирует письмо из Танжера с извинениями за устроенный накануне отъезда скандал («Мне жаль, что я причинил тебе столько страданий!»), хотя трактовать ее как простую домашнюю ссору супругов было бы слишком примитивно. Матисс начал «Разговор» давно, потом бросил, а после приезда из Марокко заполнил пустующее пространстве холста яркой синевой марокканского неба, что придало фигурам особую торжественность и сдержанность. Много лет спустя, говоря со своим зятем о светоносности живописи, он объяснял, что любая картина должна обладать способностью излучать свет. Щукин все сразу понял про «Разговор» и конечно же сразу влюбился в картину, когда в июле приезжал в Исси. Из Москвы он написал Матиссу, что постоянно думает о «синей картине с двумя персонажами»: «Я воспринимаю ее как византийскую эмаль, столь же богатую и глубокую по цвету. Это одна из самых прекрасных картин, которые остались в моей памяти»[144].
Египетские древности, русские иконы и декоративное искусство исламского мира — все это должно было «обновить зрение» пресыщенного западного человека. Летом 1912 года Матисс написал целую серию работ, в которой по-новому подошел к концепции декора. На этот раз он изобразил свою мастерскую (в которой теперь появился аквариум с красными рыбками) с необычайной нарядностью. Отдельные предметы — рыбки, цветы, ткани, картины, украшенные орнаментом ширмы — как бы растворяются и сливаются воедино, приобретая качества друг друга. Неодушевленные предметы, кажется, живут и дышат. В картине «Уголок мастерской» поток воздуха приподнимает покрывало на шезлонге и развевает синюю штору; вытканные на шторе арабески кажутся настоящими цветами, которые розовым каскадом спускаются из зеленого севильского горшка. В «Красных рыбках» растения хороводом окружают рыбок в стеклянном аквариуме, и все это написано сочными красками — алой, изумрудно-зеленой, цикламенно-розовой и черной.
В «Красных рыбках и скульптуре», самом смелом из четырех версий одной и той же темы, гипсовая «Склонившаяся обнаженная» (для которой шесть лет тому назад позировала Амели) непроизвольно обретает чувственность реальной женщины. Этот оживший натюрморт изображен на синем фоне, оставляя мастерскую художника за кадром. Во всех этих картинах населяющий мастерскую в Исси знакомый предметный мир — аквариум с рыбками, вазы с цветами, прислоненные к стене холсты — переплетается с иным, «параллельным миром» — миром спокойствия и стабильности, в котором Матисс чувствует себя совершенно свободным, одиноким и умиротворенным.
Будучи в июле в Исси, Щукин обнаружил первые «овеществленные результаты» поездки в Россию. «По-настоящему я стал воспринимать искусство Востока довольно поздно, а византийскую живопись понял, лишь стоя перед иконами в Москве, — признавался потом Матисс, имея в виду не только пластику и пространственные принципы, но и силу духа, которые почерпнул в искусстве Востока[145]. — Чувствуешь себя более подготовленным к дальнейшему пути, когда видишь, что твои усилия подкреплены традицией, и традицией древней. Это помогает преодолеть пропасть между старым и новым». Именно тем летом Сергей Иванович Щукин согласился позировать Анри Матиссу, и тот «увековечил» их союз большим портретным наброском, который считал подготовительным к будущему портрету своего «русского патрона»[146], купившего в июльский приезд еще четыре картины помимо «Разговора». «Марокканца Ами-до» он собирался повесить в гостиной, а «Настурции с “Танцем”», «Уголок мастерской» и «Красные рыбки» — в столовой, рядом со знаменитым «гогеновским иконостасом».
Живописный эффект матиссовских полотен не уступал, по словам Якова Тугендхольда, сиянию витражей и мозаик в соборах и базиликах. «Это особенно ясно становится, когда, стоя у порога щукинской гостиной, вы видите “Настурции с 'Танцем' “ и “Разговор”[147], оранжево-розовые тела первых пламенеют на синем фоне как арабески из стекол. Взгляните на картины Гогена и снова на матиссовские “Настурции”: первые покажутся вам матовой фреской, вторые — цветным окном. Палитра Матисса богаче, сложнее, пышнее палитры Гогена — Матисс самый талантливый из всех колористов нашего времени и самый культурный: он вобрал в себя всю роскошь Востока и Византии».
В конце сентября Матисс вернулся в Танжер. Ехал он в одиночестве и собирался пробыть здесь достаточно долго. Художник рассчитывал дописать картины, заказанные Щукиным и Морозовым, чтобы потом провести зиму вдвоем с Амели (столь же плодотворную, как и прошлогоднюю), но только в таком месте, где не будет таких ужасных проливных дождей, как в Марокко. Дети разъехались: Жана зачислили в коллеж неподалеку от Боэна, а Пьер вернулся к тете Берте в Аяччо, куда его отвезла Маргерит. Она тоже осталась на Корсике в надежде, что с помощью тетушки получит начальное образование (проболевшая все детство, Марго так никогда и не ходила в школу). По вечерам отец писал длинные письма дочери в Аяччо, посылал ежедневные отчеты на четырех страницах Амели и ободряющие открытки Жану.
Матисс чувствовал себя спокойным, уверенным и был полон творческих планов. Погода стояла ясная, бессонница его не мучила, и работа заладилась с самого начала. В этот приезд Танжер показался ему гораздо меньше, чем представлялся воображению прежде, а воздух — невероятно прозрачным, что придавало всему удивительную четкость. К радости Матисса, юный Амидо взял на себя роль гида и посредника между художником и потенциальными моделями. На одну из них Мат тисе наткнулся практически сразу: случайно увидел в дверях отеля «вытянувшуюся, подобно пантере, мулатку в марокканском костюме, который подчеркивал изящество ее тела, такого стройного, гибкого, молодого». Фатьма была больше африканкой, чем арабкой, горячей, дерзкой и сильной, а в лице ее было что-то кошачье. Матисс выбрал длинный узкий холст и начал писать свою новую модель на открытой террасе, несмотря на сильный ветер. Мулатку Фатьму он изобразил в нарядной бирюзовом кафтане, украшенном мелкими розовыми цветами ,1 фиолетовой тесьмой, подчеркнув зеленой обводкой выразительные линии подбородка, плеч, запястий и тонких стройных ног. На втором, меньшем по размеру холсте (написанном специально для супругов Самба), Фатьма сидит, скрестив ноги, на ярко-синем фоне; на ней темно-красная рубаха с роскошной оранжевой вышивкой и шальвары с узорным кушаком. Сообразительная Фатьма довольно быстро поняла, что заинтересовала Матисса, и постоянно требовала увеличить плату, угрожая бросить позировать. В итоге именно недовольство модели и раздражение художника, вносившие в сеансы известную долю напряженности, только добавили картинам возбуждающий блеск и великолепие.