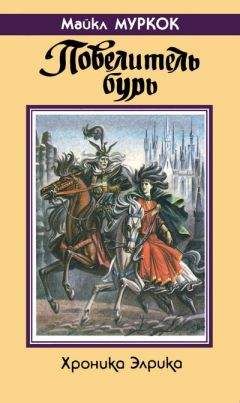Олимпия сразу по приезде вызвала к мужу самых лучших парижских врачей. И те уж постарались на славу: выписали массу рецептов, назначили строгий режим дня, в соблюдении которого мадам Россини проявила твердый характер. И мало-помалу все это вместе взятое в сочетании с налаженным бытом дало положительные результаты. Маэстро начал интересоваться окружающей жизнью, для него стали занимательны парижские новости, которыми его усердно снабжал старинный друг Микеле Карафа де Колобрано. Благородному неаполитанцу посчастливилось исторгнуть и первую шутку, сорвавшуюся с губ Джоаккино. Дело в том, что Карафа, в молодые годы служивший офицером, любил ездить верхом. Наездник был очень привязан к своему старому коню, который стал настолько дряхл, что часто приходилось давать ему отдохнуть. О пристрастиях и связанных с ними неприятностях «кавалериста» знали все его друзья. И подсмеивались над ним. Однажды вечером Россини сказал вошедшему Карафе: «Эй, дон Микеле, сегодня я не видел тебя верхом. Ты предусмотрел, что твой россинант начинает ходить с поддержкой?» Комизм высказывания крылся в двойном значении слова апподжиатура: по-итальянски в простой речи это – поддержка, а на музыкальном языке – форшлаг (вид украшения)!
Это был перелом. Россини стал выздоравливать. К нему вернулось главное свойство его характера – юмор. Очень скоро Джоаккино уже видели таким, каким он бывал раньше. В сентябре 1855 года врачи посоветовали ему отдохнуть на морском курорте в Трувилле, что близ Гавра. Там композитор повстречался и провел много времени в беседах с немецким пианистом Фердинандом Гиллером, во время совместных прогулок с которым он, с удовольствием повинуясь желанию собеседника, вспоминал свои молодые годы, нередко с доброй насмешкой освещая совсем не смешные события своей жизни. Ведь все зависит от того, как на это посмотреть. Гиллер остался в восторге от их разговоров, искренне восхищался старым маэстро: «Россини 63 года, но черты его почти такие же, как три десятка лет назад. Трудно найти лицо более умное, глаза более выразительные, а голову более прекрасную!»
Вернувшись в Париж в конце сентября, окончательно оправившийся от болезни маэстро окунулся в суету большого города. Получилось так, что он стал объектом пристального внимания. Как раз тогда начали издаваться его биографии (еще в 20-е годы появилась «Жизнь Россини» Стендаля). А крупный итальянский ученый-латинист и друг Россини Луиджи Кризостомо Ферруччи вдруг открыл знатное происхождение маэстро. Это вызвало приятное волнение в высшем парижском свете, ведь бывать в его доме было престижно для всех, а теперь выяснилось, что этот человек равен им по происхождению. Сам Россини смеялся над своим вновь обретенным графством. Если бы титула не было, разве его музыка стала бы от этого хуже? Но смех смехом, а все же старому маэстро нравилось, что его имя сияет на фронтонах магистратуры Котиньолы. И Россини заказал для себя печать с высеченным на ней фамильным гербом. Все это приятно щекотало самолюбие, хотя он отлично понимал, что не титулом обязан всеобщему поклонению. В это время в «Театр Итальен» с триумфом ставились его оперы, а желающих видеть Россини оказалось такое множество, что он с трудом успевал принимать их.
Однако мадам Олимпия, которая всегда беспокоилась за здоровье своего супруга, установила строгий распорядок дня. Обычно Джоаккино вставал в 8 утра, его посещал цирюльник, потом был легкий завтрак, состоявший из большой чашки кофе с молоком и булочки (со временем это меню заменили на 2 яйца и рюмку бордо). Потом начинались почтовые заботы маэстро. Писем тоже приходило настолько много, что Олимпия, просматривая их, давала мужу читать только самые важные или от друзей. А когда приближался день рождения композитора, поздравлений становилось такое количество, что даже энергичная мадам Россини не справлялась, и тут на помощь приходили друзья. В 10.30 Джоаккино отправлялся гулять. Больше всего он любил один из самых коротких бульваров Парижа – Итальянский, являющийся звеном Больших бульваров. Иногда по весне случалось отправиться и в Булонский лес.
Обедал маэстро обычно дома, за исключением редких случаев, как, например, когда его близкий друг граф Пилле-Вилль давал обед по окончании дачного сезона или когда прием устраивался в его честь. На одном из таких обедов (в доме Карафы) маэстро представили французского композитора Даниеля Обера, оставившего воспоминания об этом дне: «Я никогда не забуду впечатления, – рассказывал он о пропетой Россини по просьбе хозяина дома каватины Фигаро «Место! Шире раздайся, народ!», – полученного от этого блистательного исполнения. У Россини был красивейший баритон, и он пел свою музыку с вдохновением и блеском так, что превосходил в этой партии и Пеллегрини, и Галли, и Лаблаша. Что касается его искусства аккомпанировать, оно изумительно: его руки, казалось, бегали не по клавишам рояля, а распоряжались целым оркестром. Когда он закончил, я машинально посмотрел на клавиши, мне показалось, что они дымились». Но Россини не мог не смеяться. И он называл себя «пианистом четвертого класса»! В остроумии была сущность этого человека. Видеть забавные несоответствия жизненных явлений, найти смешные стороны в достоинствах и недостатках – во всем этом ему помогала его острая наблюдательность, способность трезво и логично мыслить.
Вечерами Россини всегда бывал дома. Даже в оперный театр он выбрался только 2 раза за все последние 13 лет жизни в Париже! Вечерние приемы в доме Россини, который он арендовал на Шоссе д'Антен, стали уже достопримечательностью Парижа. Каждый день там собирались близкие друзья, говорили об искусстве, музицировали; прием длился с 8.30 до 10 вечера. В теплой дружеской атмосфере обсуждались последние парижские новости и литературные новинки, говорили о живописи, театре и политике. Беседа непринужденно перетекала с одного предмета на другой. В своих суждениях об искусстве Россини всегда придерживался принципа естественности. И никогда не любил крайностей. Когда в «Театр Итальен» была возобновлена постановка «Отелло», исполнитель роли мавра тенор Тамберлик ввел в финале оперы «грудное до-диез» вместо написанного у Россини «ля», чем вызвал бурный восторг снобов. Через неделю после премьеры он пришел к маэстро. «Синьор Тамберлик», – торжественно произнес слуга Россини Тонино. «Пусть войдет, – сказал маэстро и добавил: – скажите ему, однако, чтобы оставил свой до-диез на вешалке; он возьмет его на выходе».
По субботним дням обед уже накрывался на 12 – 16 персон, а число гостей вечернего приема не регламентировалось. Бывать у Россини считалось престижным не только в артистической среде, но, как уже упоминалось, и среди аристократии. Для молодых музыкантов стало необычайно важным быть представленным Россини. Композитор уже отошел от практической деятельности, но именно его дом оказался законодателем музыкальных суждений, именно здесь можно было встретить компетентное и справедливое мнение о различных явлениях современного искусства, именно здесь господствовали изысканные и утонченные вкусы. В этом доме побывали все знаменитейшие композиторы, исполнители, писатели, художники того времени, среди которых были: Верди, Мейербер, Гуно, Сен-Санс, Тома, Лист, Тальберг, Рубинштейн, Сивори, Иоахим, Марио, Тамбурини, Никколини, Тамберлик, Гризи, Патти, Тальони, Александр Дюма-отец, Доре, Делакруа, Дюпре и многие другие. И всех Россини старался понять и поддержать. Так, про Верди он говорил: «Мне очень нравится почти дикарская натура этого композитора, а также огромная сила, которая присуща ему в выражении страстей». Искренне симпатизируя молодому коллеге, он однажды воскликнул, обнимая его при встрече: «Ты не знаешь, в какую галеру вошел! Увы!» Но тут маэстро ошибался. Уж Верди ли было не знать все превратности композиторской жизни!