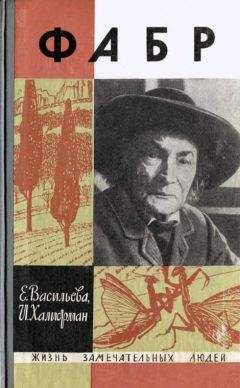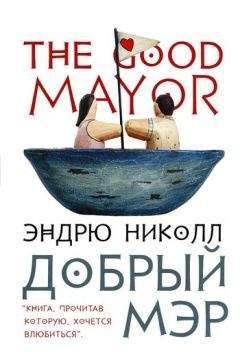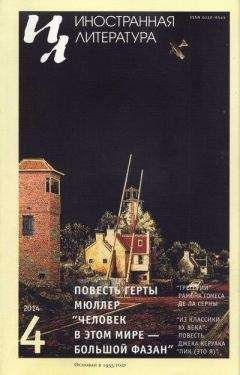«Он, — продолжал Метерлинк, — посвятил познанию маленьких секретов, являющихся оборотной стороной величайших тайн, пятьдесят лет одинокой жизни в полной неизвестности, в бедности, часто граничившей с нищетой, но освещенной каждодневной радостью, что приносит истина… Маленькие истины о нравах паука или кузнечика? — скажете вы. Нет маленьких истин, есть только одна…»
Статью уже на следующий день перепечатали сотни газет — в столице и провинции. Рухнула стена, отделявшая безвестного еще вчера натуралиста от миллионов сограждан.
Еще несколько недель прошло. Утром 3 апреля ворота Гармаса распахнулись перед приезжими со всей Франции, перед жителями Сериньяна и окрестных ферм. В шумной толпе крестьян и ремесленников, фелибров и служащих из Оранжа, Карпантра, Родеза и Авиньона самым счастливым был слепой Мариус Гиг.
— Какой праздник для мусю Фабра!
Но на площадке около розового дома с зелеными жалюзи были не все, кому здесь следовало быть.
Только вчера закончилось празднование открытия океанографического института в Монако. Помните, много лет назад Фабр писал: «На берегах океанов устраивают с большими затратами станции и лаборатории»? И вот не станция, а институт. Здесь, невдалеке от знаменитого казино, собрались гости из Парижа, делегации академий Европы и Америки. С прибрежных скал смотрит в море широкими окнами восьми этажей новый дворец науки. Мраморные ступени ведут в вестибюль, где светятся отлитые из цветного стекла медузы и морские звезды, красуются на мозаичных картинах рыбы, моллюски, иглокожие. В пол нижнего этажа врезаны окна из толстого стекла. Их лижет прибой.
Днем экскурсии в лаборатории, морские прогулки, вечером концерты самого Сен-Санса.
Институт не только пышен, он оборудован по последнему слову исследовательской техники. Еще нигде, ни в Европе, ни в Америке, нет таких аквариумов, таких тралов, таких микротомов… Работать здесь почтут за счастье самые заслуженные зоологи и ботаники моря, начинающие ученые будут мечтать хотя бы о практикуме в этом святилище океанологии.
Что удивительного, если некоторые из приглашенных на праздник в харчевню в Сериньяне не попали туда? К тому ж, когда экспресс из Монако в Париж на миг остановился в Оранже, откуда еще предстояло ехать на лошадях, здесь хлестал дождь. Дожди в этих местах, мы уже знаем, необузданны, льют без передышки. Не все, кого ждал Легро, сошли с поезда…
…Чествовали Фабра в том самом кафе, которое он отказался посетить, избранный в советники мэрии. Теперь он ехал сюда в ландо, присланном из Оранжа. Ему уже не пройти от Гармаса до центра деревни. За ландо медленно двигался кортеж. Муниципальный оркестр исполнял лучшие свои номера, даже торжественный марш из «Аиды». Мариус Гиг на барабане старался вовсю.
И за столом Фабр не снял фетровой шляпы. Он сидит, скрестив руки на груди; в петлице сюртука не видно орденской ленточки, глаза прищурены, на губах усталая усмешка. Академик Эдмон Перрье произносит приветствие, в котором выражает свое личное восхищение примером жизни Фабра.
Потом выступают члены комитета, читатели «Сувенир», друзья оглашают поздравительные телеграммы и письма: Ростан приветствует «Вергилия насекомых»; Роллан кланяется «доброму магу, знающему язык бесчисленных созданий, населяющих поля»; Мистраль восклицает: «Я всем сердцем с вами, кто чествует одну из самых ярких знаменитостей Франции, великого ученого, делом которого я восхищен, человека, заставившего нас опуститься на колени в траве». Фабр хмурится и утирает глаза.
Так слава — и настоящая и ее незаконная сестра, о которой писал Метерлинк, — одновременно вступили в Гармас. Двери дома перестали закрываться. Вереницы поклонников и зевак потянулись в Сериньян. Художники добивались разрешения писать Фабра, фотографы и операторы кинофирмы «Патэ» снимали его в саду, в лаборатории. За один год после юбилея Делаграв продал «Сувенир» больше, чем за 20 предшествовавших лет.
Из Фабра сделали сенсацию. Газеты в мрачнейших красках живописали бедность «бывшего школьного учителя, посвятившего себя букашкам». Отовсюду начали стекаться пожертвования, подарки. Кто-то прислал из Пруссии несколько пфеннигов. А «Берлинер тагеблатт» заявила: «Если потребуется, Германия оплатит долг славы, по которому отказывается платить Франция…» Напомним, это было в 1910–1911 годах, близилась война, отношения между Францией и Германией быстро ухудшались.
С протестом против оскорбительной благотворительности выступил Мистраль. Ростан напечатал стихотворную прокламацию «Франция, ты должна сделать для него все, что должна!». В парижских газетах появилось письмо Фабра. Оскорбленный тем, что его нищета выставлена на всеобщее обозрение, он просил: «Дайте мне спокойно дожить последние дни…»
Аглая заполняла почтовые бланки, возвращая переводы. Деньги, поступавшие от безымянных жертвователей, распределяли среди нищих, и толчея в доме еще больше возросла.
Когда 89-летнему Фабру установили пенсию, никто не хотел верить, что до того ее не было.
«Конечно, — писал Легро, — положение Фабра перестало быть трагическим… Но как не пожалеть, что его не освободили от материальных забот хотя бы 20 лет назад».
В наши дни некоторые энциклопедические справочники, в том числе и французские, как бы задним числом поправляя очевидную несправедливость, утверждают, будто Фабр был не только членом-корреспондентом академии, но и лауреатом Нобелевской премии по литературе. И то и другое неверно. Фабра не выбрали даже тогда, когда в академии установили специальные вакансии членов-корреспондентов для провинциальных ученых. Не пришлось ему щеголять в шляпе с пером и в зеленом мундире при шпаге с перламутровой ручкой.
Но это уже не могло ни на что повлиять. Смерч славы продолжал бушевать вокруг старика. Взрослые и дети, больные из санаториев Лазурного берега, поэты, актеры, совершающие турне и улучившие часок, чтоб навестить знаменитость, продекламировать мадригал, а может, и сфотографироваться рядом… Гармас перестал быть Пустырем!
В этом потоке затерялся бы Эдуард Эррио, не расскажи он о своем приезде к Фабру. Мэр Лиона, уже тогда видный политический деятель и публицист, доказывал в своих книгах, что естественные науки — самый чистый источник вдохновения, что наука должна обогащать литературу, вытесняя мистическую символику лжепоэтов, болтовню лжепсихологов, заумный жаргон лжефилософов. В мемуаре Фабра о любви богомолов больше тем для размышления, чем во многих романах, считал автор истории салона мадам Рекамье…
Эррио приехал в Сериньян, очарованный живой и ясной прозой Фабра, сочетающей изящество и точность, а покинул Гармас, покоренный самим естествоиспытателем, этим поэтом-крестьянином, читающим на память Вергилия и исправляющим Лафонтена, этим старым учителем, знающим о природе больше, чем самые эрудированные профессора Сорбонны.