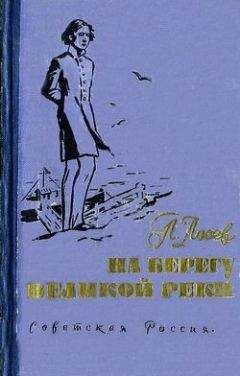Письмо от Юлечки было короткое, всего несколько строк. Полудетский, полуученический почерк. От листочка исходил даже легкий, едва ощутимый запах нежных цветов – то ли ландышей, то ли фиалок.
«Милый Николенька!» Так начиналось письмо. Какие сердечные слова! Сколько в них простодушного доверия, искренности. Обидно только, что первым прочел эти слова отец, что истолковал их по-своему – грубо, оскорбительно.
Юлечка сообщала, что она уже в Петербурге, что очень скучает по Ярославлю, по Волге.
«Не собираетесь ли вы в нашу, еще не омраченную осенним холодом столицу? – спрашивала она. – Как бы я была счастлива увидеть вас здесь, под небом града Петрова, на брегах Невы. Пожалуйста, напишите мне. Жду».
А в самом уголке письма мелким бисерным почерком было добавлено:
«Не сердитесь на меня. Ваш адрес дал мне Мишель. Он очень славный…»
Вот и все, что было в письме. Даже обратный адрес Юлечка не указала, должно быть, по рассеянности.
Ранним утром следующего дня, когда Николай крепко спал, в комнату вошел отец и бесцеремонно затряс его за плечо:
– Подымайсь!
Николай открыл глаза. Отец стоял перед ним в новом голубом мундире с погонами. На боку висела сабля в черных ножнах.
– Собирайся! – приказал отец.
– Куда, батюшка? – не забыв вчерашнего, хмуро спросил Николай.
– По уезду прокатимся. Владения наши осмотрим. Тебе полезно. Скажи, не так?
Николай стал нехотя подниматься. А под окном, у самого крыльца, уже дожидался крытый тарантас, запряженный тройкой сытых лошадей. Позвякивали медные колокольчики на расписной дуге коренника. На козлах понуро сидел Трифон с унылым лицом: поездка с барином не предвещала ему ничего хорошего…
Целую неделю продолжалось путешествие. Уезд был немалый: на десятки верст раскинулся по обеим сторонам Волги.
Какие только селения не встречались на пути: Диево-Городище, Искроболь, Горе-Грязь, Голодаиха, Наготино, Сопелки, Горелово. Странные, удивительные названия! И кто их только придумал? – удивлялся Николай.
Всюду, где только не показывался отец, происходило одно и то же. Новый исправник бранил десятских, сотских, размахивал плетью, таскал за бороды мужиков.
– Я вам покажу!..
А потом садился в тарантас и приказывал ехать дальше.
Бесконечно вилась уходившая к горизонту проселочная дорога, однообразно скрипел и трясся на ухабах тарантас.
Наконец выбрались на укатанный Московский большак. Проезжали через село, которое называлось Карабихой. Стояло оно на высокой горе. Чуть в стороне виднелось голубоватое, с круглой башенкой здание, до половины утопавшее в зелени.
– Князя Голицына имение, – почтительно сняв картуз и обращаясь к сыну, сказал отец. – Губернатором был. Недавно богу душу отдал, царство ему небесное.
И, вздохнув, добавил:
– Ух, богач был! В полную сласть пожил. Позавидуешь!
Он с сердцем двинул Трифона ногой в спину:
– Погоняй! Дрыхнешь, каналья!
Николая передернуло. Будто его самого отец ударил.
Обедать остановились в бедной деревушке, одиноко стоявшей при дороге. Отец был бы непрочь добраться до Ярославля и там устроить трапезу. Но жара и слепни до того довели лошадей, что они едва двигали искусанными в кровь ногами.
– Горе-горькое, а не деревня, – распрягая коней, буркнул в ответ Трифон, когда Николай спросил его, в какое селение они приехали. – Так, вроде, и прозывается – Горево. А может, Егорьево. Что-то я не дослышал. Стар становлюсь…
Казалось, никто не живет в этих скособочившихся, с худыми крышами-ребрами избушках. Тишина могильная. Ни кошки, ни петуха на улице, ни вездесущих мальчишек.
Ходя из избы в избу, Трифон долго искал сотского.[34] Наконец привел едва передвигавшего ноги старичка с колючими, низко нависшими бровями.
– Нету у нас соцкова, – шамкал он беззубым ртом. – Я за старшего. Мне на Миколу-вешнего все девяносто стукнуло. Вот ведь дело-то какое, того-этого…
– Хватит языком молоть! – оборвал его Алексей Сергеевич. – Парного молока! Быстро!
Старец низко склонил лысую, с серыми пятнами голову:
– Нету молочка, батюшка. Барин всех коровок со двора свел.
– Ах, черт бы тебя подрал! – хлопнул Алексей Сергеевич плеткой по сапогу. – Тогда курице башку оттяпай. Слышишь?…
– Нету, батюшка, опять же нету, – кланялся старик, – барину намедни последних отдали. С голоду пухнем. Обратно же подати платить надо. Все поборы да поборы.
Алексей Сергеевич с гневом хлестнул старика плетью:
– Так ты еще рассуждать туда же! Смутьянничать!
Со стиснутыми зубами стоял Николай около тарантаса. Он готов был броситься к отцу, вырвать у него плеть.
Но Алексей Сергеевич уже оттолкнул старика.
– Запорю! – орал он на всю деревню. – Эй, Тришка! Сгоняй мужиков. Бей набат!
Почесывая в затылке, Трифон покорно направился к висевшему посредине деревушки колоколу с длинной, спускавшейся на землю веревкой.
Повернувшись к сыну, отец коротко приказал:
– Тащи погребец.[35]
И, опускаясь на траву, погладил себя рукой по животу:
– Давай угостимся, чем бог послал. Не богато в погребце, но кое-что запасено. Скажи, не так? Молочка вот хотелось да курочку. Только с этим народом разве столкуешься. Ну, тащи!
Но Николай не двинулся с места…
– Тащи, говорю, – повторил отец, засовывая плетку за пояс. – Аль забыл, в каком углу погребец? Все учить надо. – Когда он снова обернулся, подле тарантаса никого не было…
Свернув в сторону от дороги, Николай устремился к Волге. Он знал, что она где-то неподалеку. Спрашивал встречных, заходил в деревни напиться воды.
Наконец впереди мелькнула голубая лента реки. Потом показались золоченые купола Бабайского монастыря. А на том берегу вырисовывалась, подобно маяку, белая церковь. Она видна за многие версты. Нигде нет поблизости такой высоченной горы, как в Аббакумцеве.
Незнакомый лодочник с большой рыжей бородой перевез его на другую сторону. Был он молчалив, угрюм. Нехотя поднимал весла и все вздыхал.
– Жена, братец ты мой, у меня померла, – сказал он, причаливая к берегу. И, отказавшись принять от Николая медные деньги, попросил: – Ты свечку за нее в церкви поставь. Дарьей звали. Работящая была бабенка, да проклятый бурмистр загубил: погнал в самую водополь в лес, дрова рубить. Ну и застудилась. Сперва ноги отнялись, потом и преставилась…
Торопливо, словно боясь опоздать куда-то, шагал Николай вдоль кремнистого берега Волги. Прыгали круглые камешки из-под ног, шуршал золотистый песок, взлетали алмазные брызги воды…
Как хорошо, что он сбежал! Может, это хоть немного образумит отца. Никогда он не будет помощником отцу в таких делах. Что бы сказали Александр Николаевич и Иван Семенович, если бы увидели Николая с плетью в руке? Бедные, нищие мужики. Нагие, босые. Стонут их дети, стонут жены. От голода, от холода, от нужды. «Все люди равны, все от бога!» – говорила няня. Почему же тогда так много несчастных на земле?