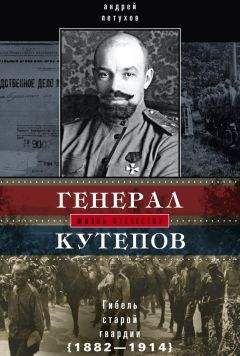Тут он был прав, а закон, как говорил Остап Бендер, надо знать и чтить. Я выложил все, что было в карманах. Салюткин вывернул наизнанку все записные книжки, комсомольский и военный билеты, снял с них корочки пытаясь найти запрещенное. Попутно наехал с вопросом, почему у меня с собой два, а не одно письмо. Но не нашел ничего противозаконного или запрещенного.
– Где остальные увольнительные записки? Где?
Тут я понял, что он искал, и порадовался собственной прозорливости.
– Нет, и не было. Вот одна была. На столе лежит.
– Я ее проверю. Я ее отнесу к экспертам.
– Проще к комполка сходить. Заодно "по рогам" получите, что отказались выполнять его приказ, – нагло заявил я.
Салюткин выскочил из-за стола и кинулся ко мне. Ростом он был пониже, но приблизительного одного со мной веса.
– Ты совсем охренел солдатик? Окабанел, да? Я тебя научу уму-разуму.
И с этими словами Салюткин ударил меня в грудь. Я выставил руку, закрываясь. Он ударил еще раз. Затем удары посыпались один за другим. Я отбивался, выставляя блоки, отходя назад, контролируя себя, чтобы не врезать ему обратно. Фингал под глазом у офицера мог мне грозить не только дисбатом, но и тюрьмой. Салюткин не успокаивался и продолжал молотить руками. Отходя, я уперся в стол и скосил глаза, чтобы найти путь дальнейшего отступления. В этот момент лейтенант, сделав обманное движение, сильно стукнул мне кулаком в солнечное сплетение, на чем мой самоконтроль закончился.
Еще в девятом классе я, уйдя от удара одноклассника в глупом мальчишеском споре, автоматически выбросил правую руку вперед в выпаде, и только разделяющий нас стол спас его от того, что разлетевшийся хрящ носа не вошел в мозг. О том, что я натворил, я понял только через несколько минут. Однокласснику долго собирали носовой хрящ в военно-медицинской академии, ругая сотворившего это хулигана. В этот раз я бить не стал. Может быть, по причине того, что контроль был еще не полностью потерян, может быть, потому, что пытался перехватить руку офицера, которая проскочила сквозь мой блок. Я схватил имеющего со мной один вес обидчика за плечи, рванул его в сторону, сделал правую подсечку, и мечтающий стать командиром роты гвардии лейтенант Салюткин полетел через каптерку как пташка.
Такого поворота Салюткин не ожидал. Озираясь по сторонам и ища выпученными глазами поддержки у Бугаева, он вскочил, и я с ужасом увидел, что его выглаженная рубашка вылезла из брюк, две пуговицы отлетели, а самое страшно, что погоны лейтенанта, так бережно вышитые ему любимой женой, остались у меня в руках. Я ошалело смотрел на смятые погоны, и в голове неслось: "Вот теперь точно кранты. Сорвал погоны с офицера. Посадят, как пить дать, посадят.
Если он сейчас побежит в штаб полка – мне уже ничего не поможет". В ужасе я отшвырнул лейтенантские погоны на стол, где лежали мои записные книжки и документы. Чуть замешкавшийся Бугаев кинулся ко мне и схватил меня в охапку своими огромными лапищами.
– Бугай, да не буду я его бить. Пусть сам не лезет. Пусти.
Бугаев, закрывая не то меня от Салюткина, не то Салюткина от меня, медленно разжал руки.
– Бугаев. Никуда его не отпускать. Чтобы сидел здесь,- взвизгнул лейтенант и, подобрав погоны и пуговицы, выскочил в коридор.
"Побежал в штаб полка", – вновь подумал я. – "До свидания, мама дорогая".
Минут через пять, лейтенант вновь заскочил в каптерку. Пуговицы были уже пришиты, погоны как-то расправлены и располагались на узких плечах.
– Не выпускай его. Я ему сейчас устрою.
Через полчаса Салюткин вернулся довольный и сияющий, как начищенная пряжка солдатского ремня.
– Бугаев, веди его на гауптвахту. Вот записка об аресте.
Оставив все записные книжки у писарей, я отправился вместе с
Бугаевым на дивизионную гауптвахту.
– Товарищ капитан,- приветствовал начальника караула артиллерийского полка Бугаев. – Я Вам арестованного привел.
– На фиг он мне нужен?
– Вот записка об аресте.
– Дай глянуть. Трое суток? Ты чего такого натворил, сержант?
– Поспорил с лейтенантом о взглядах на духовную жизнь.
– В общем, послал взводного нахрен?
– Не совсем. Спор вышел небольшой…
– Ну, это не мое дело. Вытряхивай все из карманов.
– Я… это… пошел? – мялся Бугаев.
– Иди, иди. Дня через три заходи…
Бугаев вышел.
– Давай, давай, все, что есть выкладывай. Ремень снимай, пояс.
– Да у меня ничего и нету. Вот только конфеты.
– И конфеты выкладывай. Выйдешь – получишь.
– Лучше давайте сейчас съедим, а то не хорошо получается, конфеты в сейф прятать. Угощайтесь, ребята.
Я вывалил все конфеты на стол дежурного по караулу. Стоящие рядом сержанты радостно похватали конфеты. Взял парочку и капитан. Снимая ремень, я рассказал свежий, услышанный в Москве анекдот, мы дружно посмеялись. Мне дали теплого чая в синем, пластиковом стакане.
– Товарищ капитан, а можно мне посмотреть записку об аресте? – попросил я.
– Смотри, твоя же, – ухмыльнулся капитан.
На записке стояла полковая печать, и была размашистая подпись, не сильно похожая на ту, что поставил мне "кэп" на увольнительной.
– Насмотрелся? Пошли. Бочков, отведи его в пятую камеру.
Камера оказалось пустая. Я сел на откинутую лавку и вспомнил, как через три недели армейской службы я заступил в свой первый караул выводным именно сюда, на гауптвахту. А вот сейчас я сам был арестованным на этой же гауптвахте. В размышлениях я провел до вечера, когда приехали, вывозимые днем на работы, другие арестованные. Все они были солдатами, и в камере, предназначенной для сержантского состава, на ночь я остался один.
В два часа ночи в замке провернулся ключ, издав страшный скрежещий звук, дверь отворилась, и мне в лицо засветил ярки луч фонаря.
– Фонарь убери, придурок, – крикнул я
– Встать! Рожу покажи. Ханин? Это ты? – фонарь отодвинулся в сторону, и я увидел майорскую звезду.
Некогда командир третьей батареи, а ныне командир дивизиона майор
Коносов стоял передо мной.
– Ты как сюда попал? На сколько тебя?
– Трое суток. С лейтенантом поспорил…
– За спор на трое суток не сажают. Побегать хочешь?
– Неа. Спать хочу. Я с наряда по роте сюда попал.
– На нет и суда нет. Спи, – и майор вышел из камеры.
– Камера подъем, – раздался крик в коридоре. – Курите, сволочи? Я запах чую. Камера, строится на улице. Бегом!! Последний получает дополнительные трое суток ареста.
Утром следующего дня, после завтрака нас построил помощник начальника гауптвахты. Лицо у прапорщика выглядело помятым, красный, загнутый крючком нос нависал над верхней губой, которая была разбита, маленькие красные глаза подтверждали, что помощник начальника гауптвахты явился на службу после большой попойки. В дивизии ходили слухи о пьянстве прапорщика, и подобное состояние не предвещало ничего хорошего.