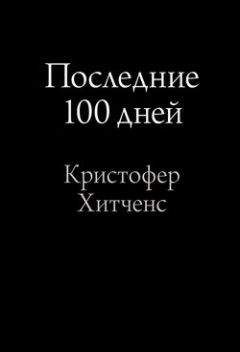Самый лучший комплимент, который может сделать мне читатель, это — что у него возникло ощущение, будто написанное адресовано лично ему. Вспомните своих любимых писателей; не это ли привлекало вас в их книгах, пусть часто и оставалось незамеченным? С таким ощущением сравнится разве что хорошая беседа: вы понимаете, что все аргументы приведены и восприняты, что разговор был ироничным и сложным, — а ведь скучное или очевидное замечание способно причинить почти физическую боль. Так и философия развивалась в беседах — до того, как была записана. И поэзия начиналась с голоса, единственного источника, и слуха — единственного приемника. Не знаю ни одного по-настоящему хорошего писателя, который был бы глухим. Каким образом глухой, даже вооруженный всей наукой добрейшего аббата де л’Эпе[90], сможет оценить тончайшие взлеты и падения нюансов, на которые способен человеческий голос? Генри Джеймс[91] и Джозеф Конрад[92] фактически набело диктовали свои поздние романы, не подбирая слова, и это должно считаться одним из величайших достижений искусства устного рассказа всех времен, даже учитывая, что впоследствии им было полезно и прослушать повторно некоторые отрывки; а Сол Беллоу[93] продиктовал большую часть «Дара Гумбольдта». Без личного ощущения уместности идиолекта, то есть тех характерных черт, которыми индивидуум устно, а значит и письменно, выражает свои мысли, мы утратили бы значительную часть человеческих симпатий, а также такие крошечные, но милые радости, как подражание и пародия.
* * *
Если серьезно… «Мне дарован язык», — писал У.Х. Оден[94] в стихотворении «1 сентября 1939 года»[95], в котором явлена его мучительная попытка понять абсолютное зло и противостоять его триумфу. «Кто скажет правду глухому? — в отчаянии вопрошал поэт. — Кто заговорит за немого?» И почти в то же время будущий лауреат Нобелевской премии, немецкая еврейка Нелли Закс[96] писала, что явление Гитлера сделало ее буквально безгласной: полное отрицание всех ценностей лишило ее собственного голоса. В нашей повседневной речи имеется идиома, которая отражает эту идею, хотя и не вполне точно: когда умирает достойный общественный деятель, то в некрологах часто пишут, что он был «голосом» безгласных.
Из человеческого горла вырываются и совершенно ужасные вещи: крик, нудное бормотание, хныканье, вопли, «воинственная чепуха», как написал Оден в том же стихотворении, даже насмешки. Всегда можно противопоставить спокойный и тихий, остроумный и сдержанный голос, которого мы так жаждем, потоку бессмыслицы и шума. Блестящие примеры мудрости и дружбы из прошлого — от «Апологии Сократа» Платона[97] до «Жизни Джонсона» Босуэлла[98] — это всегда эхо общения, непосредственное взаимодействие, соединение здравого смысла и размышлений. Именно в такие моменты споров и сопоставлений рождаются ускользающие, волшебные mot juste[99]. Для меня помнить дружбу — значит вызывать в памяти беседы, прерывать которые было бы непростительно: принести им в жертву грядущий день казалось совершенно естественным. Так Каллимах[100] вспоминал своего любимого Гераклита:
Кто-то сказал мне о смерти твоей, Гераклит, и заставил
Тем меня слезы пролить. Вспомнилось мне, как с тобой
Часто в беседе мы солнца закат провожали.
Друг остался бессмертным в памяти друга благодаря своей великолепной речи:
Но еще живы твои соловьиные песни: жестокий,
Все уносящий Аид рук не наложит на них.
Хотя последняя строчка кажется мне немножко слишком высокопарной…
* * *
В медицинской литературе голосовые связки — это всего лишь «складки», выросты слизистой оболочки, которые соприкасаются друг с другом, давая нам возможность издавать звуки. Но мне кажется, что это не просто складки, а струны, способные на вибрации, пробуждающие воспоминания, создающие музыку, вызывающие любовь и слезы, заставляющие толпы преисполняться жалости и страсти. Возможно, мы не единственные животные, обладающие речью, хотя нам и хотелось бы так думать. Но мы единственные, кто может использовать голосовое общение для удовольствия и отдыха, сочетая его со здравым смыслом и чувством юмора. Утрата этого дара природы лишит нас целого комплекса способностей. Это очень похоже на смерть.
Главным моим утешением за год умирания были друзья. Я не мог есть и пить в свое удовольствие, поэтому, когда они навещали меня, единственным нашим наслаждением становилась беседа. Некоторые мои друзья с легкостью могли бы собрать целый зал людей, готовых заплатить за возможность услышать их. Общение с такими людьми — величайшее счастье. Теперь наконец я мог слушать их бесплатно. Могли они зайти повидать меня? Конечно, но лишь ненадолго. Поэтому каждый день я отправлялся в приемную и смотрел по кабельному телевидению ужасные новости из Японии[101] (часто без субтитров, только чтобы помучить себя), ожидая, когда очередная доза протонов ворвется в мое тело со скоростью, равной двум третям от скорости света[102]. На что я надеялся? Если не на излечение, то хотя бы на ремиссию. А что хотел вернуть? То, что выражается восхитительным сочетанием двух простейших слов нашего языка: свободу речи.
У смерти есть много достоинств:
Ради нее не нужно подниматься с постели:
Когда наступит время умирать,
Ее доставят тебе — бесплатно.
— Кингсли Эмис
Острые угрозы, презрительное запугивание и убийственные замечания вырываются из пустого позолоченного рта дурака, который играет пустыми словами, а это значит, что он занят не рождением, а умиранием.
— Боб Дилан «Все в порядке, Ма (просто я истекаю кровью)»
Когда подошло время и старик Кингсли[103] перестал держаться на ногах, что его страшно мучило и выводило из себя, он лег в собственную постель и отвернулся к стене. После этого оставалось только ждать сиделку. «Убей меня, чертов идиот!» — однажды выкрикнул Кингсли своему сыну Филиппу. И все же он пассивно и покорно ждал конца. И конец наступил — без суеты и без хлопот.
Мистер Роберт Циммерман[104] из Хиббинга, штат Миннесота, как-то раз очень близко встретился со смертью[105]. Он не раз пересматривал и переосмысливал свои отношения со Всемогущим и «Четырьмя последними вещами»[106] и продолжает показывать миру: существует множество разных способов доказать, что человек жив. В конце концов, учитывая выбор…
Пока полтора года назад мне не поставили диагноз «рак пищевода», я довольно беспечно заверял читателей моих мемуаров, что перед лицом исчезновения с лица земли мне хочется быть в полном сознании и трезвом уме, «принять» смерть активно, а не пассивно. И я до сих пор пытаюсь поддерживать в себе слабый огонек любопытства и непокорности: я хочу бряцать на своих струнах до самого конца и не потратить даром ничего из того, что принадлежит жизненному циклу. Однако смертельная болезнь заставляет тебя снова и снова анализировать знакомые принципы и, казалось бы, абсолютно справедливые слова. И тут я обнаружил, что произношу прежние слова уже не с такой убежденностью, как раньше. В частности, я практически перестал утверждать, будто «все, что меня не убивает, делает меня сильнее».
Теперь я иногда удивляюсь тому, что когда-то считал эти слова глубокой истиной. Обычно их приписывают Фридриху Ницше[107]: «Was mich nicht umbringt macht mich starker»[108]. По-немецки они звучат как стихи — поэтому мне всегда казалось, что Ницше позаимствовал их у Гете, который написал их веком раньше. Но есть ли смысл в этих строчках? Возможно, есть или может быть — но лишь эмоциональный. Я мог припомнить сложные моменты, когда любил или ненавидел. Я выходил из них, ощущая прилив новых сил, которых не мог бы получить никак иначе. Пару раз в жизни я был на волосок от гибели — в автомобильных авариях и во время журналистской работы за рубежом. В такие минуты я тоже чувствовал, что произошедшее меня закалило. Но, сказав «это бог спас меня», я тем самым сказал бы всего лишь: «Милость божья снизошла на меня, а тот несчастный ее лишился».
* * *
В грубом физическом мире, в мире, которым правит медицина, существует много такого, что могло бы убить тебя, но не убивает, а лишь делает заметно слабее. Ницше было суждено узнать об этом самым жестоким образом[109]. И это повергло его в такое недоумение, что он решил включить данную максиму в свою антологию 1889 г. «Сумерки кумиров»[110]. (Немецкое название книги «Gotzen — Dammerung» явно перекликается с вагнеровской эпопеей. Возможно, серьезнейшие разногласия с композитором[111] (Ницше пришел в ужас от полного отрицания классики в угоду кровавым германским мифам и легендам) и стали импульсом, придавшим философу моральную силу и мужество. Бравада его чувствуется даже в подзаголовке той самой книги: «Как философствуют молотом».)