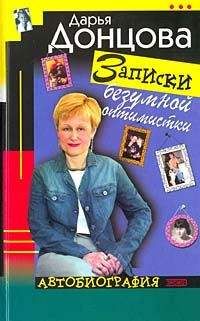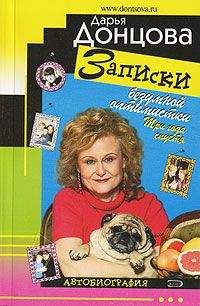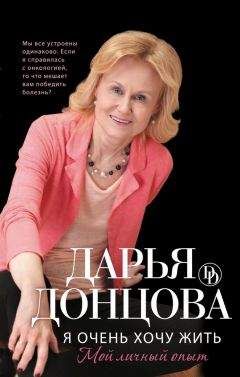Зимой, одев дочь Томочку в хорошенькую шубку из белочки, такой же капор и варежки, Афанасия пошла в магазин. В лавке оказалось жарко, чтобы дочка не вспотела, Фася оставила ее у входа, на улице. Когда Афанасия вышла, Томочки у магазина не было, она пропала. Думается, можно не объяснять, какие чувства испытала несчастная мать, бегая по переулкам в поисках дочки. Но все было бесполезно.
В полном ужасе Афанасия кинулась в милицию. Там ее встретил сотрудник, решивший успокоить бедняжку.
— Ты, гражданочка, сядь, — участливо сказал он, — выпей воды.
А потом произнес фразу, которую моя бабушка не сумела забыть до самой смерти.
— Дочка потерялась? Найдем, не плачь, теперь бояться нечего. Торговку, которая из детей варила холодец, мы вчера поймали.
Напомню, что шел голодный 1922 год. Услышав из уст милиционера сие заявление, бабушка упала, у нее внезапно отнялись ноги. Стефан принес жену домой на руках. До самого вечера они мучились от неизвестности, но потом в дверь позвонили. На пороге стоял милиционер, державший за руку чумазую побирушку в лохмотьях.
— Получите ребенка и распишитесь, — сурово велел он Стефану.
Дедушка отшатнулся.
— Но это не моя дочь!
Тут нищенка бросилась к нему на шею и закричала:
— Папочка, это же я, твоя Томочка!
Девочку завели в какой-то дом, сняли с нее дорогую шубку с шапкой, дали ей рваный платок и выставили вон.
Целых три месяца после этого события бабушка не могла ходить, ее на извозчике возили к врачу на массаж, но толку не было никакого. Впрочем, именно эти поездки в конце концов и исцелили Афанасию.
Один раз извозчик не сумел справиться с лошадью, та, испугавшись чего-то, понесла. И тут бабушка неожиданно выпрыгнула из пролетки. Страх отнял у нее ноги, страх же их и вернул.
Вообще-то Фася никогда не терялась в экстремальных ситуациях и умела принимать неординарные решения. Когда однажды в ее гимназии вспыхнула от свечки новогодняя елка и огонь мигом перекинулся в зал, все гимназистки, визжа от ужаса, бросились к двери, где, пытаясь выбраться, начали давить друг друга. Фася же молча кинулась в противоположную сторону, к окну, и благополучно очнулась раньше всех во дворе. Афанасия никогда не была «стадным» человеком.
Понимаете теперь, почему бабушка ни на шаг не отпускала от себя любимую внучку? Послабление делалось лишь на даче, в Переделкине.
Каждый год в конце мая мы уезжали туда, в дом под номером четыре на улице Тренева. Это здание никогда не было нашей собственностью. Двухэтажный дом со всеми удобствами и участком почти в гектар принадлежал Союзу писателей, отец просто отдавал за него арендную плату. Мебель, посуду и всякие бытовые мелочи мы прихватывали с собой. До нас это здание занимал драматург Ромашов, а моя семья прожила там с 1960 по 1987 год. Мое детство, отрочество, юность и часть молодости прошли в Переделкине.
Дача была зимней. В первые годы у нас были печки, топившиеся дровами, затем появились батареи, но в котел все равно приходилось сыпать уголь, лишь потом провели газ и повесили колонку, безотказно дававшую горячую воду, телефон же поставили уже после смерти моего отца. Но все равно это были совершенно царские условия. Нам не приходилось бегать с ведром к колодцу и топать к дощатому сортиру в глубине участка.
Около ворот стояла сторожка. Одну ее половину занимал гараж, во второй жили дворники Таня, Коля и их дочка Вера.
Зимой в Переделкине было, безусловно, хорошо, но меня привозили только на январские каникулы, а вот летом… О, тогда наступало самое счастливое время.
Я не стану сейчас перечислять всех, кто жил в писательском городке, постараюсь лишь припомнить друзей родителей: П. Нилина, А. Вознесенского, З. Богуславскую, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, В. Тевекеляна, Л. Кассиля, С. Смирнова, И. Андронникова, И. Штока… Я определенно кого-то забыла. Самые близкие отношения связывали папу и маму с семьей Валентина Петровича Катаева. Его вдова, Эстер Давыдовна, дочка Женя, внучка Тина наши ближайшие друзья до сих пор, а моя дочь Маша и правнучка Валентина Петровича Лиза нежные подруги.
Именно в семье Катаевых я получила первое понятие о литературном творчестве. Нет, мой отец писал каждый день, трудно, тяжело, подчас по двенадцать часов кряду. Но у него это происходило совершенно неинтересно, буднично.
Утром папа, выпив чашку чаю, сообщал:
— Ушел к станку, — и запирался в кабинете.
Меня с раннего детства приучили не соваться к папе, когда закрыта дверь. У Валентина Петровича дело обстояло иначе. Он мог вскочить во время общего чаепития, оборвав фразу на полуслове и со странным выражением лица, покинуть всех, не сказав ни слова. Эстер Давыдовна объясняла:
— Валечка пошел работать.
Честно говоря, меня его поведение пугало, и один раз я, набравшись смелости, подошла к классику советской литературы и спросила:
— Дядя Валя, а почему вы вот так убегаете?
Валентин Петрович погладил меня по голове и вздохнул:
— Боюсь, детка, не сумею объяснить. Понимаешь, я слышу голос, который мне нашептывает фразу, вот и бегу ее записывать.
Я обсудила эту информацию с его внучкой Тиной, и мы пришли к выводу, что Валентин Петрович придумывает. Ну какой такой голос?
Вот ведь бред. Но именно Валентин Петрович Катаев впервые посеял в моей душе сомнения, и я задалась вопросом: а вдруг писатель это не тот человек, который сначала составляет подробный план произведения, а потом методично пишет главы? Вдруг правда кто-то диктует ему на ушко?
Уже в зрелом возрасте я читала разные воспоминания, в которых фигурировала фамилия Катаева. Многие коллеги по перу описывали Валентина Петровича как желчного человека, но это неправда. Просто Катаев терпеть не мог бездарей, называвших себя литераторами. По Переделкину ходил маленький дядечка Василий К., написавший за всю свою жизнь только одно произведение, поэму о ленинском субботнике. Ее многократно переиздавали, и Василий К. на самом деле считал себя равным Пушкину. Вот в адрес этого человека Валентин Петрович мог отпустить едкое замечание, у него был острый язычок сатирика, но он никогда не позволял себе грубости и не унижал чужого достоинства. С нами, детьми, он был фантастически терпелив. Сколько раз мы с Тиной играли в их доме в прятки, с топотом носясь по лестнице. Однажды мне пришла в голову идея спрятаться у Валентина Петровича под письменным столом, что я и проделала. Тина носилась с воплями по саду, я сидела тихо-тихо, прижавшись к ногам Катаева. Вдруг распахнулась дверь, и вошла Эстер Давыдовна, которая довольно сердито сказала:
— Нет, какое безобразие! Ты же мешаешь работать Катаеву!