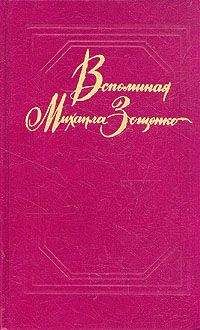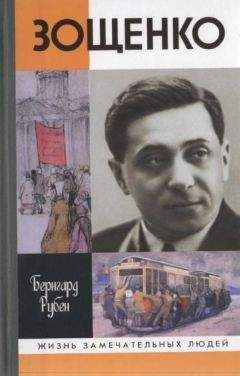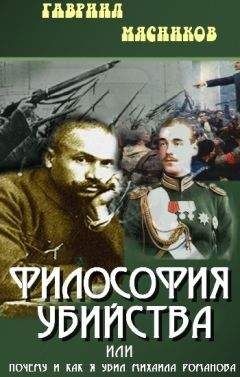Этот «зайцевский» герой сам про себя думает: «А может, и он мертвый?» Он понимает, что для него «нет больше жизни, что все ушло», он в лес «умереть пришел».
Впоследствии Зощенко выделит из «Серого тумана» эпизод с «уходом в лес, в разбойники» и «переместит» в рассказ «Война».
Любопытно отметить, что в двадцатом году в его записной тетради, где он, по своему обыкновению, сохранившемуся на всю жизнь, наряду с набросками, отрывками задуманных произведений, мыслями, афоризмами и прочими вписывал фразы и слова, которые ему могут пригодиться впоследствии, — в этой записной тетради «красивые, изысканные» фразы 1917–1919 годов, такие, как «Венок, сплетенный из милых, старых нелепостей», «В лесу так темно, что ручеек из болота ползет ощупью, натыкается на деревья и пни и ворчливо обходит их», «Сияет улыбка, как солнце, и солнце смеется миру», сменяются вдруг совсем новыми, неожиданными: «крыть нечем», «шамать», «шпана», «голодовать», «дастишь», «упань», «хвалился знакомством под шпилем», «я не освещен»…
Эти «новые» слова, эти фразы мы встретим в его первых опубликованных рассказах «Любовь», «Война», «Старуха Врангель», «Рыбья самка», «Лялька Пятьдесят» и в «Рассказах Синебрюхова», которые он напишет летом — осенью 1921 года.
К этому времени относится уже знакомство Горького с «серапионами» и сам Горький уже даст оценку рассказам Зощенко.
Вот что пишет об этом Зощенко в своих дневниковых заметках 1921 года:
«Ал. Макс. читал «Старуху Врангель». Понравилось. Я был у него. Он все время читал выдержки и говорил, что написано блестяще. Но узконациональный вопрос. Даже только петербургский. Это плохо.
— Как, — сказал, — мы переведем на индусский язык такую вещь? Не поймут».
«Очень понравилась Алексею Максимовичу „Рыбья самка“».
В конце весны — начале лета 1921 года Зощенко пишет повесть «Красные и белые», забракованную Горьким.
Вот что пишет об этом Зощенко:
«Июнь — июль писал повесть «Красные и белые». Повесть погибла.
Нарочно растрепал ее и этим испортил.
Ал. Макс. сказал, что из всех моих вещей — это слабей и многословней. Многословней! На полутора листах — огромный роман.
Иные места, очень, думаю, хорошие, погибли».
От повести осталось лишь несколько первых страниц.
Задумана была повесть о жизни маленького провинциального городка, где установились уже новые, революционные порядки, где у власти стояли уже новые люди, правда, еще далеко не «правильные», не «настоящие» люди революции.
На сохранившихся страницах повести «остался» председатель горсовета Тюха, мечтающий об электрификации таким образом: «борона электрическая, плуг заграничный электрический», «какой-нибудь бесплатный электрический бильярд». Он сокрушается о том, что пока «плохо человеку».
Это уже чисто зощенковский тип. Подобных людей Михаил Михайлович мог наблюдать, работая в то время конторщиком в военном порту «Новая Голландия» — в Петрограде.
Повесть написана от лица какого-то «обывателя» города Гиблого — очевидно, из прежних мелких чиновников, а теперь «совслужащего» в горсовете.
Язык повести выдержан в стиле дореволюционного «полуинтеллигента» из мелких чиновников.
После неудачи с «Красными и белыми» летом и осенью 1921 года Зощенко пишет цикл своих «Рассказов Синебрюхова», с которыми и выходит на литературную арену, — они появились отдельной книжечкой в издательстве «Эрато».
Тогда же были напечатаны и первые пять рассказов, написанных еще зимой.
С этих пор Зощенко становится профессиональным писателем и всего себя целиком отдает литературе.
Цель, о которой он мечтал с детства, была достигнута.
К. Чуковский
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ[2]
1
В Петрограде, на углу Литейного и Спасской, стоял — да и стоит до сих пор — большой несуразный дом, принадлежавший богатому греку Мурузи, весь в каких-то арабесках и орнаментах. Некогда в этом доме проживал Мережковский. Здесь же, внизу, находилась знаменитая лавка Абрамова, бойко торговавшая в старые годы чудесными медовыми пряниками.
В начале революции одну из наиболее обширных квартир в этом доме захватила организация эсеров. Вскоре эсеры исчезли, и в квартире поселились беспризорники. Еще через несколько месяцев оттуда убежали и они — очевидно, застигнутые внезапной облавой. Убегая, они все же успели открыть на кухне и в ванной все краны.
Я забрел случайно в этот дом вместе с писателем Александром Николаевичем Тихоновым. Когда мы поднимались по загаженной лестнице, до нас донеслось клокотанье воды. Дверь была не заперта, мы вошли. Вода заливала все комнаты, в ней тихо шевелилась и мокла какая-то разноцветная бумажная рвань: по полу, как потом оказалось, были разбросаны тысячи эсеровских брошюр и листовок, которые и затопило водой.
Я снял башмаки и, добравшись до кранов, приостановил водопад. Александр Николаевич огляделся по сторонам и сказал:
— А не сгодится ли эта квартирка для Студии?
О Студии мы мечтали давно. «Всемирная литература» — издательство, руководимое Горьким, — чрезвычайно нуждалась тогда в кадрах молодых переводчиков. «Стоит только, — тут же решили мы оба, — высушить полы, да очистить их от промокшей бумаги, да стереть непристойные рисунки и надписи, оставленные на стенах беспризорниками, — и можно будет здесь, в этой тихой обители, начать ту работу, к которой уже давно побуждает нас Горький: устроить нечто вроде курсов для молодых переводчиков, чтобы они могли овладеть своим трудным искусством».
Тихонов, друг и помощник Горького, был директором нашей «Всемирки», он мгновенно взялся за дело, и уже через несколько дней — в июне девятнадцатого года — состоялось торжественное открытие Студии. Общими усилиями полы были вытерты, надписи стерты, и когда эсеровские агитки просохли, оказалось, что ими можно отлично топить наш небольшой, но очень приятный камин.
Вскоре в Студии стало тепло и уютно, особенно после того, как ее секретарь Мария Игнатьевна Закревская раздобыла для студистов, при содействии Горького, горячую бурую жидкость под легендарным названием «кофе».
А однажды — мы восприняли это как чудо! — Мария Игнатьевна отвоевала для нас две большие буханки глиноподобного хлеба, которые с виртуозным искусством разрезала на мельчайшие части тупым и широким ножом, найденным тут же на кухне.
Впрочем, вскоре Марию Игнатьевну заменила юная быстроглазая Муся Алонкина, в которую один за другим то и дело влюблялись студисты.