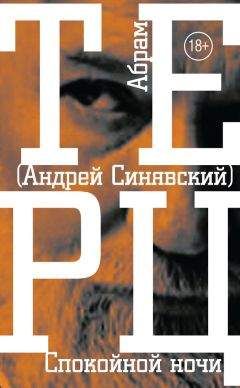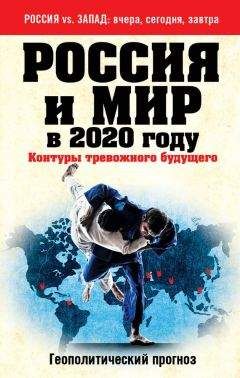и духовной свободы прямо противоречили советской модели писателя как «инженера человеческих душ». Равно чуждой для него была традиционная для России идея писателя как рупора власти, наставника или пророка с монопольным правом на истину. В те ранние годы он начинал выковывать свой собственный стиль и идентичность, выступая против соглашательства и доминирующих норм. Образ и биография Синявского с самого начала были столь же неотъемлемой частью полемики о нем, сколь и его произведения.
Сперва он обратился к поэзии. Это был очень краткий период – ни одной опубликованной работы, ни одного упоминания за пределами узкого круга друзей-студентов. Можно посчитать его недостойным упоминания, но Синявский сам привлекает внимание к этому этапу, пусть и с характерным для него отрицанием и самоуничижением, в автобиографическом романе «Спокойной ночи» (см. также [Zamoyska 1967: 54]). Зная, куда ведет эта ссылка, стоит следовать по ней с осторожностью, поскольку мы вступаем на территорию позднего Синявского. Здесь автор судит с перспективы прожитых четырех десятков лет, фантастического пера Терца; его слова несут на себе оттенок полемики, порожденной выходом в свет «Прогулок с Пушкиным». Частью апология, частью автомифологизация, «Спокойной ночи» – это сложное переплетение жизней Синявского и Терца, каждый из которых причастен к созданию образа другого. Тем не менее тот факт, что Синявский не просто ссылается на свои стихи, но и цитирует целые отрывки и делает это в заключительной главе, посвященной его превращению в Терца, говорит о том, какое значение он придавал своей поэзии в контексте собственного становления как писателя: следуя русской поэтической традиции в студенческие годы, он уже задумывался о своем образе и своей роли. Об амплуа поэта стоит помнить по еще одной причине: оно тесно связано с образом затейника и скомороха, который у позднего Синявского перерастет в писателя.
Его поэзия студенческой поры была намеренной попыткой дотянуться до прошлого, до Серебряного века, поэтому-то он и сочинял стихи в духе Блока, Маяковского и имажинистов [17]. И хотя перед нами поздний Синявский, желающий подкрепить свою писательскую квалификацию, идея непрерывности, представление о писателе как живом воплощении культурного наследия, – не просто полемический прием; это основополагающий принцип его роли как автора – передать в собственных трудах богатый культурный запас России.
Одновременно поэзию Синявского следует воспринимать как отторжение существующего порядка [18]. Попытки возродить связи с запретным прошлым были сами по себе вызовом; роль «декадентского» поэта была до предела провокационной, поскольку ее могли посчитать намерением низвергнуть прозаические нормы и мускулистую героику социалистического реализма. Ясно, что это было связано с Терцем – уже активной частью его существа: между двумя стихотворениями он замечает, опять-таки в духе пародии на себя самого: «Где-то за стенкой, за стенкой моей души (?!), очевидно, давно уже поселился двойник, который все это мое идейное разложение заносит в свой неуклонный протокол» [Терц 1992, 2: 535].
Терц не был создан для поэзии, хотя она и оставалась невысказанной вдохновляющей силой его прозы. Истинным актом его сопротивления все же станет литературная критика.
Когда рассуждают о Синявском как о писателе, то порой упускают или недооценивают его значение как ученого и литературного критика. Но именно эта сторона деятельности оставалась мощью и центром его произведений, фантастичных и научных одновременно, на протяжении всей жизни. Не раз подчеркивалось, и самим Синявским в том числе, что существует тесная взаимосвязь между его произведениями и произведениями Абрама Терца [Белая книга 1966: 241; Tikos, Peppard 1971: xvii; Cornwell 1993: 12–13; Kolonos ky 2003: 55–66]. Терц, со всеми его выраженными отличиями от Синявского, как стилистическими, так и прочими, являлся самой дерзновенной, радикальной стороной литературного критика, его самой бурной и в то же время наиболее рассчитанной фантазией о том, что можно сделать во имя русской литературы.
На суде Синявский говорил о трудностях, с которыми сталкивался как критик, о разного рода проволочках со стороны издателей в отношении даже заказных статей. Под этим он, среди прочего, подразумевал свою затяжную борьбу с редакционной коллегией «Библиотеки поэта» по поводу предисловия к новому изданию стихотворений Пастернака, вышедшему в год его ареста [Белая книга 1966: 241]. Но даже это можно считать четким знаком, что он искал возможность и следовать собственному пути, и выражать отрицание существующего порядка, его эстетических и этических ценностей, притом не в неопубликованных стихах, а в печатных научных и критических трудах.
И решение Терца переправить рукописи за рубеж означало новый шаг в этом направлении: это был яростный акт неповиновения Синявского советскому режиму и его системе ценностей, хотя он и утверждал, что отсылает свои произведения для того, чтобы их сохранить, а не в качестве публичного антисоветского поступка, и что он специально просил Э. Пельтье (в замужестве Замойскую) найти на Западе издателя без антисоветских убеждений. Он мог заявить, как заявлял на суде, что в достаточной мере знаком с советской литературой, чтобы понимать: его художественные произведения никогда не будут опубликованы в России; однако, в отличие от Пастернака и Солженицына, он даже не предпринимал попыток этого добиться [Белая книга 1966: 240–241] [19].
Решение переправить свои труды за границу контрабандой надо считать декларацией его веры в свободу искусства – искусства, отделенного от политики и узкосоциальных обязательств. Разыгрывая личную партию с советским режимом, Синявский воплощал в реальность метафору собственной «криминальной» жизни в качестве автора творческой, а потому неприемлемой литературы, превращая ее в фантастический рассказ о преступлении и приключениях с Терцем в главной роли.
В этом вызове, брошенном границам дозволенного, становятся очевидны неразрывные узы, связывающие Синявского и Терца. Принимая на себя риск исключительно ради остроты ощущений, художник действует как заправский шоумен – как Костя, протагонист одного из первых рассказов Терца «В цирке» (1955). Риск, сильнейший творческий стимул, – вот мера его таланта. А кроме того, это этическая мера обязательства, принятого им на себя; вопрос принципа, знак его независимости и свободы мышления [20]. Возвращаясь к одной из своих последних книг «Путешествие на Черную речку» (1994), он по-прежнему повторяет: «Не бойтесь рисковать!» – литературная критика должна быть нелицеприятной и смелой, чтобы русская литература продолжала жить [Терц 1994: 20].
Университетские годы. Эволюция метода
Терц – не порождение оттепели; этот персонаж уже созревал в уме Синявского, когда изменение политического климата открыло ему возможность выйти на сцену [Theimer Nepomnyashchy 1991а: 7–8]. Хотя именно в качестве Терца Синявский пошел на разрыв с советской системой, сам он не менее яростно ломился в ее двери от собственного имени и продолжал это делать долгое время после того, как в