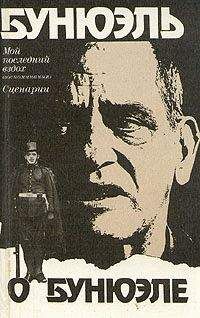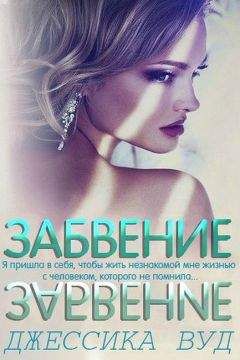Эти тщательно соблюдаемые принципы лежали в основе всего обучения, в котором самое большое место, естественно, занимало религиозное образование. Мы изучали катехизис, жития святых, апологетику. Хорошо знали латынь. Некоторые методы обучения сводились всего-навсего к использованию приемов схоластической аргументации. Например, desaflo — вызов. Если мне хотелось, я мог бросить вызов одному из товарищей. Я называл его имя, он вставал, я задавал ему вопрос, я бросал ему вызов. При этом соблюдались средневековые выражения:«Contra te! Super te!»(«Против тебя! На тебя!») или «Vis cento?»(«Идешь на сотню?», то есть: «Держишь пари на сто?») Ответ был: «Volo»(«Хочу»). После ответа учитель называл победителя. И оба противника возвращались на свои места.
Вспоминаются лекции по философии, когда преподаватель объяснял нам со снисходительной улыбкой доктрину несчастного Канта, который, оказывается, глубоко ошибался в своих метафизических рассуждениях. Мы стремились быстро записывать. Случалось, на следующем занятии преподаватель вызывал кого-то из нас и говорил: «Мантекон! Опровергните Канта!» Если ученик Мантекон хорошо усвоил урок, опровержение продолжалось не более двух минут.
Кажется, именно к четырнадцати годам у меня появились первые сомнения относительно религии, которой нас так старательно пичкали. В их основе оказались размышления об аде и о Страшном суде, сцена которого представлялась мне особенно абсурдной. Мне казалось совершенно невероятным, чтобы мертвые всех времен и народов внезапно поднялись из чрева земли, как это изображалось на средневековых картинах, для последнего воскрешения. Я считал это абсурдным, невозможным. И спрашивал себя: где могли бы сгрудиться эти миллиарды миллиардов тел? И еще: если есть Страшный суд, к чему тогда другой, тот, который следует тотчас за смертью и который в конечном счете является окончательным и бесповоротным?
В наши дни многие священники не верят ни в черта, ни в ад, ни в Страшный суд. Мои ученические сомнения очень бы их позабавили.
Несмотря на суровые нравы, тишину и холод, у меня сохранились довольно приятные воспоминания о коллеже иезуитов. Не помню ни одного скандала на сексуальной почве, который мог бы поколебать незыблемый характер отношений между учащимися или между учащимися и учителями. Будучи довольно хорошим учеником, я отличался непослушанием. В последний год учебы меня так часто наказывали, что почти все перемены я стоял в углу двора. Однажды я совершил невероятную провинность.
Мне было почти тринадцать лет. Был страстной вторник, и на следующий день я собирался ехать в Каланду, чтобы изо всех сил бить в барабан. Рано утром, пешком направляясь в коллеж, за полчаса до мессы я встречаю двух своих соучеников. Напротив коллежа находятся велодром* и таверна с дурной репутацией. Сорванцы товарищи уговаривают меня зайти туда и купить бутылку дешевой водки под названием «matarratas»— смерть крысам. Затем возле канала они же провоцируют меня выпить, а всем известно, как трудно мне отказаться от такого искуса. Я пил из горлышка большими глотками, — они лишь слегка смачивали губы, — и внезапно почувствовал, что все начало плыть вокруг меня, и я зашатался.
Мои дорогие товарищи препровождают меня в часовню, и я преклоняю колени. В первой половине мессы стою, как и все, на коленях, закрыв глаза. Когда же начинается чтение Евангелия, все должны встать. Сделав усилие, я поднимаюсь, но внезапно мне становится дурно и меня начинает рвать прямо на святые камни часовни.
В тот день — я тогда только что познакомился со своим другом Мантеконом — меня отвели в лечебницу, затем домой. Речь шла о моем исключении из коллежа. Очень рассерженный, отец намеревался отменить поездку в Каланду, но потом, видимо по своей доброте, простил меня.
В пятнадцать лет, когда мы отправились сдавать переходные экзамены в «институте» второй ступени, иначе говоря — в светский лицей, надзиратель без всякой причины дал мне пинка, унизив меня, и назвал payaso, клоуном.
Я вышел из рядов и потом сдавал экзамены отдельно, а вечером объявил матери, что меня исключили из коллежа иезуитов. Мать отправилась к директору коллежа, и тот охотно согласился меня оставить, так как я получал «почетную грамоту» — самую высокую награду по всеобщей истории. Но я отказался туда вернуться.
Тогда меня определили в «институте», где я провел два года вплоть до экзамена на бакалавра. Для завершения занятий у каждого учащегося был выбор между этим государственным лицеем и многочисленными религиозными заведениями.
На протяжении двух лет один из студентов права знакомил меня с дешевыми изданиями по философии, истории и литературе, о которых нам ничего не говорили в «Коллеж дель Сальвадор». Круг моего чтения сразу расширился. Я открыл для себя Спенсера, Руссо и даже Маркса. Знакомство с «Происхождением видов» Дарвина стало для меня прозрением и окончательно разрушило остатки моей веры. Свою невинность я потерял в маленьком борделе Сарагосы. К тому же с началом первой мировой войны в Европе все вокруг трещало по швам. Эта война уже тогда разделила Испанию на два непримиримых лагеря, которые столкнутся в смертельной схватке спустя двадцать лет. Все правые, все консервативные силы страны объявили о своих прогерманских настроениях. Все левые, всякий, кто считал себя либеральным, прогрессивным, выступили в поддержку Франции и союзников. С провинциальной тишиной, однообразным и спокойным течением жизни, с не подлежащей сомнению социальной иерархией было покончено. XIX век подошел к концу. Мне было семнадцать лет.
Я открыл для себя кино, еще будучи ребенком, в 1908 году. Заведение называлось «Фарручини». На улице перед прекрасным деревянным фасадом с одной дверью для входа и другой — для выхода помещалось пять автоматов по продаже лимонада, изрыгавших одновременно музыку для привлечения зевак. Внутри барака под простым брезентом люди сидели на скамейках. Меня, естественно, сопровождала нянька. Она ходила за мной всюду, даже когда я шел к своему другу Пелайо, жившему на другой стороне бульвара.
Первая живая картинка, которую я увидел и которая поразила меня, представляла свинью. Это была мультипликация. Перевязанная трехцветной лентой, свинья пела. Помешавшийся за экраном фонограф воспроизводил мелодию. Фильм был цветной, это я отлично запомнил, то есть был раскрашен по кадрам.
В те времена кино было просто ярмарочным развлечением, технической новинкой. За исключением железной дороги и трамвая, к которым уже все привыкли, так называемая современная техника в Сарагосе почти отсутствовала. В 1908 году в городе, кажется, был всего один автомобиль на электрических батареях. Кинематограф явился совершенно новым фактором, вторгшимся в наш средневековый мир.