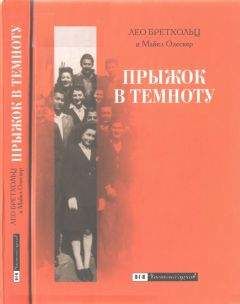Я стоял перед обувным магазином Бекка в шестом или седьмом ряду, в толпе, простирающейся покуда хватало глаз. Звонили церковные колокола. Люди хором орали: «Sieg heil!» («Да здравствует победа!») Крики вырывались из вздымающихся от гордости грудных клеток, и слезы радости катились по щекам австрийских нацистов, с их холеными мясистыми лицами.
Мне казалось, что вся эта людская толпа страстно жаждала Авторитарности и Власти, и эта жажда за короткий срок преобразовалась в садистские действия.
Но стоя на тротуаре возле квартиры моего дяди, я испытывал скорее любопытство, чем страх. Так много людей, так много сограждан… Не ополчатся же все они против одного-единственного маленького еврея.
Мы все еще считали, что господство Гитлера продлится недолго. Что он как-то сам по себе исчезнет, если мы займемся своими делами. Было ощущение, что мы его знаем. Он был сумасшедший бандит, но также — один из австрийцев, выскочка, который родился здесь и именно здесь вскормил свою ненависть. Мы думали, что он не сможет долго существовать в цивилизованном европейском мире, а будет выметен неким актом во имя человечности. Мы были уверены, что такая человечность в Европе еще существует. Когда автоколонна с Гитлером приблизилась, у меня даже не возникло чувства, что я присутствую при историческом событии. Я видел роскошное театральное действие: звон колоколов сливался со звуками военных маршей, со всех сторон в воздух взлетали цветы. Потом, когда ликование толпы достигло предела, появился Он.
Гитлер стоял на заднем сидении открытого мерседеса — коричневая форма; вытянутая вперед, на уровень щеки, правая рука. Громко играли трубы, толпа орала и неистовствовала, гремели барабаны. Слишком много восторга для одного человека, слишком много веры в одну идею, итог которой — уничтожение моего народа. Но почему? Мне только что исполнилось семнадцать. По своей наивности я задавался вопросом: неужели евреи совершили что-то столь ужасное, о чем я даже не догадываюсь?
Машина Гитлера ехала со скоростью около двадцати километров в час в сторону Хофбурга, бывшей резиденции Габсбургов в Вене. Из-за флагов, развевавшихся у меня над головой, я не мог видеть небо. Люди вскидывали в приветственном жесте руки и кричали снова и снова: «Heil Hitler!» — именно так, как я видел это в кадрах кинохроники. «Ein Volk, ein Reich, ein Führer!»[3] — горланили они. Позже, когда мир забудет обо всем этом, эти люди станут называть себя «первыми жертвами» войны.
Гитлер все время смотрел вперед. Его лицо было театрально строго, поза застывшая — человек с героической миссией, главный персонаж — прямо из грандиозной оперы. Он, казалось, был слишком увлечен своим крестовым походом, чтобы замечать вокруг себя людей, обожествляющих его. Но я видел его взгляд, бегающий из стороны в сторону, — он всматривался в лица и пытался оценить степень поклонения толпы. Он был человеком, и его мучили сомнения: будут ли приняты его новые насильственные действия. Принимают ли австрийцы его достаточно горячо? В следующее мгновение он исчез, но народ уже ответил утвердительно на его вопросы.
Я снова поднялся в квартиру дяди Исидора. Соседи как раз собирались уходить. Они были потрясены, а дядя и тетя с некоторой нервозностью пытались преуменьшить то, что произошло, утверждая, что все уже позади. Хотя к тете Шарлотте вернулся голос, но певучий ритм ее речи пропал. Уже одно это огорчило меня. Дядя и тетя не хотели проявлять беспокойство в присутствии своих маленьких детей, но все же сказали мне, чтобы я сразу ехал домой на трамвае и был осторожен. Они считали, что для евреев находиться на улице стало опасно.
По дороге домой я увидел слова, написанные на мощеных улицах и тротуарах: «Австрия должна остаться Австрией» — лозунг для плебисцита, который должен был подтвердить нашу независимость от Германии, но так никогда и не состоялся. Было написано: «Rot-weiß-rot, bis in den Tod». — «Красный-белый-красный, до самой смерти».
Фундамент для холокоста был заложен в первый же день после вторжения Гитлера в Австрию. Люди, считавшие себя неотъемлемой частью пестрой мультинациональной культуры Вены, вдруг, за одну ночь, оказались отвергнуты обществом.
В поисках моей кузины Марты нацисты отправились в квартиру тети Каролы и дяди Морица. Двадцатипятилетняя Марта — маленькая, изящная интеллектуалка — была политически активна. Она верила, что коммунизм спасет Европу. Коричневорубашечники зашли за ней в шесть утра, но Марта их перехитрила. Предчувствуя надвигающуюся опасность, она скрылась, ничего не сообщив рыдающей тете Кароле и не оставив ни малейшего намека о своем возможном местопребывании. Она была первой в нашей семье, кто так или иначе исчез.
Итак, штурмовики, оставшись ни с чем, отправились в магазин одежды дяди Морица на Ганновергассе. Они знали, что Марта иногда работала там бухгалтером. Но ее и там не было. Они хотели знать, где она. Дядя Мориц ответил, что ее сегодня не было и где она — он не знает. Дядя был крепким, спортивным мужчиной со стрижкой ежиком. Он не привык, чтобы им командовали. Коричневорубашечники отодвинули его в сторону, перерыли магазин и выбросили все его товары на улицу. Когда он стал протестовать, они забрали его с собой.
Дядя Мориц, который поцеловал меня в щеку в день похорон отца, утром, на второй день после аншлюса, был отправлен в Дахау. А моя кузина Марта сбежала в Швейцарию, когда там еще принимали евреев.
На следующий после вступления Гитлера в Вену день холокост еще только зарождался. Немцы еще не отладили механизм геноцида. Некоторые евреи, подобно моей кузине Марте, смогли еще убежать. Но на той же неделе по всей Вене начали сгонять еврейских мужчин и женщин. Орущие молодые люди выволакивали на улицы университетских профессоров, врачей и адвокатов и принуждали их опускаться на колени, вместе с женами и детьми. А затем дети наблюдали, как их родителям выдавали зубные щетки, ведра с холодной водой и швабры и приказывали отмыть с мостовой краску: «Красный-белый-красный, до самой смерти».
Истребление евреев медленно набирало темп. Началось все с унижения этих испуганных людей, подвергавшихся на улицах оскорблениям и издевательствам. Раввинам поджигали их белые бороды, а затем тушили, окатывая их ледяной водой. Стариков ставили на колени и заставляли хором орать: «Heil Hitler!»
Я стоял в толпе на обочине дороги, хотел вмешаться и не шевелился, так как знал, что ничего не смогу сделать, чтобы остановить это варварство. Я рассматривал стоящих на коленях людей, которых принудили щетками отмывать мостовые. От страха и унижения они не поднимали глаз. Я нервно огляделся вокруг, подумав, не сомнет ли эта сила и меня. Те, стоящие на коленях, старались сохранить свое достоинство. Я не сводил с них глаз, так как отвернуться означало бы перестать быть свидетелем начала массовых убийств.