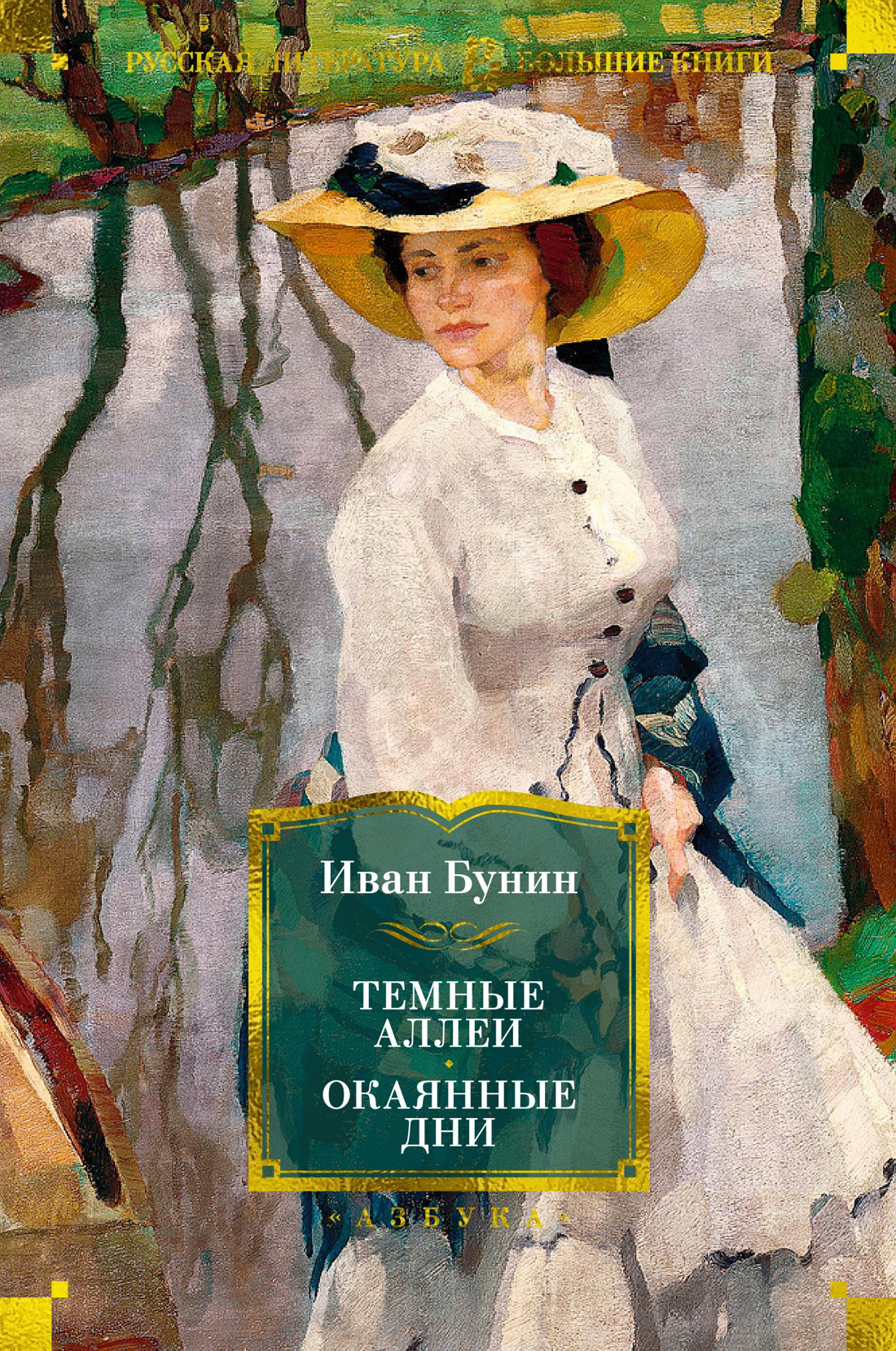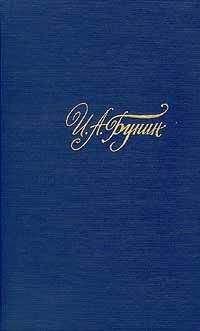платформу несметные дачники, пахло каменным углем паровоза и сырой свежестью леса, показывалась в толпе она, с сеткой, обремененной пакетами закусок, фруктами, бутылкой мадеры… Мы дружно обедали глаз на глаз. Перед ее поздним отъездом бродили по парку. Она становилась сомнамбулична, шла, клоня голову на мое плечо. Черный пруд, вековые деревья, уходящие в звездное небо… Заколдованно-светлая ночь, бесконечно-безмолвная, с бесконечно-длинными тенями деревьев на серебряных полянах, похожих на озера́.
В июне она уехала со мной в мою деревню – не венчаясь, стала жить со мной как жена, стала хозяйствовать. Долгую осень провела не скучая, в будничных заботах, за чтением. Из соседей чаще всего бывал у нас некто Завистовский, одинокий, бедный помещик, живший от нас верстах в двух, щуплый, рыженький, несмелый, недалекий – и недурной музыкант. Зимой он стал появляться у нас чуть не каждый вечер. Я знал его с детства, теперь же так привык к нему, что вечер без него был мне странен. Мы играли с ним в шашки, или же он играл с ней в четыре руки на рояле.
Перед Рождеством я как-то поехал в город. Возвратился уже при луне. И, войдя в дом, нигде не нашел ее. Сел за самовар один.
– А где барыня, Дуня? Гулять ушла?
– Не знаю-с. Их нету дома с самого завтрака.
– Оделись и ушли, – сумрачно сказала, проходя по столовой и не поднимая головы, моя старая нянька.
«Верно, к Завистовскому пошла, – подумал я, – верно, скоро придет вместе с ним – уже семь часов…» И я пошел и прилег в кабинете и внезапно заснул – весь день мерз в дороге. И так же внезапно очнулся через час – с ясной и дикой мыслью: «Да ведь она бросила меня! Наняла на деревне мужика и уехала на станцию, в Москву, – от нее все станется! Но, может быть, вернулась?» Прошел по дому – нет, не вернулась. Стыдно прислуги…
Часов в десять, не зная, что делать, я надел полушубок, взял зачем-то ружье и пошел по большой дороге к Завистовскому, думая: «Как нарочно, и он не пришел нынче, а у меня еще целая страшная ночь впереди! Неужели правда уехала, бросила? Да нет, не может быть!» Иду, скрипя по наезженному среди снегов пути, блестят слева снежные поля под низкой, бедной луной… Свернул с большой дороги, пошел к усадьбе Завистовского: аллея голых деревьев, ведущая к ней по полю, потом въезд во двор, слева старый, нищий дом, в доме темно… Поднялся на обледенелое крыльцо, с трудом отворил тяжелую дверь в клоках обивки, – в прихожей краснеет открытая прогоревшая печка, тепло и темнота… Но темно и в зале.
– Викентий Викентич!
И он бесшумно, в валенках, появился на пороге кабинета, освещенного тоже только луной в тройное окно.
– Ах, это вы… Входите, входите, пожалуйста… А я, как видите, сумерничаю, коротаю вечер без огня…
Я вошел и сел на бугристый диван.
– Представьте себе, Муза куда-то исчезла…
Он промолчал. Потом почти неслышным голосом:
– Да, да, я вас понимаю…
– То есть, что вы понимаете?
И тотчас, тоже бесшумно, тоже в валенках, с шалью на плечах, вышла из спальни, прилегавшей к кабинету, Муза.
– Вы с ружьем, – сказала она. – Если хотите стрелять, то стреляйте не в него, а в меня.
И села на другой диван, напротив.
Я посмотрел на ее валенки, на колени под серой юбкой, – все хорошо было видно в золотистом свете, падавшем из окна, – хотел крикнуть: «Я не могу жить без тебя, за одни эти колени, за юбку, за валенки готов отдать жизнь!»
– Дело ясно и кончено, – сказала она. – Сцены бесполезны.
– Вы чудовищно жестоки, – с трудом выговорил я.
– Дай мне папиросу, – сказала она Завистовскому.
Он трусливо сунулся к ней, протянул портсигар, стал по карманам шарить спичек…
– Вы со мной говорите уже на «вы», – задыхаясь, сказал я, – вы могли бы хоть при мне не говорить с ним на «ты».
– Почему? – спросила она, подняв брови, держа на отлете папиросу.
Сердце у меня колотилось уже в самом горле, било в виски. Я поднялся и, шатаясь, пошел вон.
Ах, как давно я не был там, сказал я себе. С девятнадцати лет. Жил когда-то в России, чувствовал ее своей, имел полную свободу разъезжать куда угодно, и не велик был труд проехать каких-нибудь триста верст. А все не ехал, все откладывал. И шли и проходили годы, десятилетия. Но вот уже нельзя больше откладывать: или теперь, или никогда. Надо пользоваться единственным и последним случаем, благо час поздний и никто не встретит меня.
И я пошел по мосту через реку, далеко видя все вокруг в месячном свете июльской ночи.
Мост был такой знакомый, прежний, точно я его видел вчера: грубо-древний, горбатый и как будто даже не каменный, а какой-то окаменевший от времени до вечной несокрушимости, – гимназистом я думал, что он был еще при Батые. Однако о древности города говорят только кое-какие следы городских стен на обрыве под собором да этот мост. Все прочее старо, провинциально, не более. Одно было странно, одно указывало, что все-таки кое-что изменилось на свете с тех пор, когда я был мальчиком, юношей: прежде река была не судоходная, а теперь ее, верно, углубили, расчистили; месяц был слева от меня, довольно далеко над рекой, и в его зыбком свете и в мерцающем, дрожащем блеске воды белел колесный пароход, который казался пустым, – так молчалив он был, – хотя все его иллюминаторы были освещены, похожи на неподвижные золотые глаза и все отражались в воде струистыми золотыми столбами: пароход точно на них и стоял. Это было и в Ярославле, и в Суэцком канале, и на Ниле. В Париже ночи сырые, темные, розовеет мглистое зарево на непроглядном небе, Сена течет под мостами черной смолой, но под ними тоже висят струистые столбы отражений от фонарей на мостах, только они трехцветные: белое, синее и красное – русские национальные флаги. Тут на мосту фонарей нет, и он сухой и пыльный. А впереди, на взгорье, темнеет садами город, над садами торчит пожарная каланча. Боже мой, какое это было несказанное счастье! Это во время ночного пожара я впервые поцеловал твою руку и ты сжала в ответ мою – я тебе никогда не забуду этого тайного согласия. Вся улица чернела от народа в зловещем, необычном озарении. Я был у вас в гостях, когда вдруг забил набат и все бросились к окнам, а потом за калитку. Горело далеко, за рекой, но