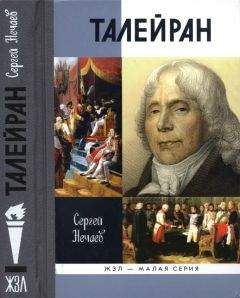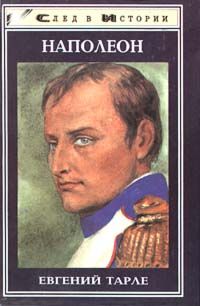Во-первых, как нарушить священный и неприкосновенный принцип частной собственности? Торжествующая буржуазия столько раз и так велеречиво его провозглашала, подтверждала, внедряла и славословила, и в то же время она так боялась, чтобы до сих пор помогавшие ей массы не обратились от штурма Бастилии к мануфактурам, домам и меняльным лавкам, что всякий раз, когда вопрос хоть отдаленно касался перемен имущественного характера, в речах и поведении собрания замечался какой-то разнобой, наблюдались колебания, трения, некоторая растерянность и нерешительность. А тут ведь дело шло об экспроприации колоссальных церковных земельных фондов. Не могло ли это послужить соблазнительным примером, например, толчком к требованию перераспределения всех вообще земельных имуществ, поощрением к «аграрному закону», к земельной реформе в стиле братьев Гракхов, о которых так часто и с таким беспокойством поминали в те времена?
А, во-вторых, эта экспроприация касалась ведь большого, прекрасно организованного сословия, того самого духовного сословия, которое хоть и было очень многими и крепкими нитями связано со старым режимом, но до сих пор вело себя с большою осторожностью, вовсе еще не становилось в ряды врагов революции и, обладая значительным влиянием в деревне, нигде не было пока замечено в контрреволюционной агитации среди крестьян. Сразу сделать эту громадную, сплоченную, полуторатысячелетнюю организацию своим врагом буржуазные законодатели тоже отнюдь не желали. Если бы еще, отнимая эту землю у церкви, ее отдали немедленно крестьянам, было бы основание надеяться на то, что материальные выгоды, получаемые крестьянами, обезвредят контрреволюционную пропаганду обиженного и раздраженного духовенства. Но ведь эти земли вовсе не предназначались к раздаче: они должны были поступить в казну, которая уж и озаботилась бы их продажей с публичного торга. Опасное и полное соблазна насилие над принципом частной собственности, переход духовенства в контрреволюционный лагерь — вот перспективы, встававшие пред обеспокоенным взором Национального учредительного собрания. Без конфискации этих колоссальных земельных богатств обойтись было никак нельзя. Как бы сделать так, чтобы и земли оказались в руках казны и чтобы конфискации никакой при этом не было?..
Вот тут-то и пригодились князю Талейрану его епископское облачение и пастырский посох, тут-то он и понял, что подвертывается сам собою, случай (и уже, конечно, последний случай) получить за эти красивые, во несколько устаревшие вещи гораздо больше, чем мог бы дать за них самый щедрый антикварный магазин.
10 октября 1789 года — утром Учредительное собрание, а вечером весь Париж были потрясены неожиданным, изумительным и радостным известием. Оказалось, что живы еще в греховном веке святые христовы заповеди, повелевающие во смирении и нищете видеть истинное блаженство! Сами высшие служители алтаря, пастыри душ людских, без всякого давления со стороны, движимые одной лишь беззаветной любовью к ближним, возжелали отдать все, что имеют, в пользу отечества, вспомнили, что они являются прямыми наследниками и продолжателями босых и нищих палестинских апостолов, и добровольно отказались от всех своих земель! Даром! Без выкупа! И кто же совершил этот подвиг, достойный блаженнейших угодников божиих? Скромный епископ отенский, он же (во миру) князь Талейран-Перигор! Именно он, не предупредив даже никого из других духовных лиц, увлекаемый индивидуальным сердечным порывом, внес в Учредительное собрание предложение — взять в казну церковные земли — и представил тут же разработанный проект закона об этом. В пояснительной записке подчеркивалось, что церковная собственность не похожа на обыкновенную частную собственность, что государство смело может ею овладеть и что эта мера «согласуется с суровым уважением к собственности». «Иначе бы я эту меру отвергнул», бестрепетно заявлял при этом принципиальный автор.
Все эти оговорки, а главное — духовный сан автора законопроекта, сразу снимали прямо гору с плеч революционной буржуазии. Это было именно то, что требовалось: церковь сама брала на себя инициативу, дело шло отныне не о конфискации, а о добровольном пожертвовании.
Правда, чувствовалась некоторая неувязка: епископ отенский уже с давних пор снискал себе моральную репутацию, значительно отличающуюся от той, которая подходила бы к такому вот древле-благочестивому святителю и подвижнику, желающему вернуть церковь к евангельской нищете. Известно было, например, что, не говоря уже о грехах юности, за епископом отенским, даже и в тот момент, о котором идет речь, числились две любовные связи одновременно и что эти связи как-то сложно, но неразрывно переплетались с его финансовыми делами, и трудно было понять, кто у кого сколько берет и получает. Говорили (Камилл Демулэн даже печатал об этом в своей газете прозой, а другие журналисты в стихах), что епископ отенский, посвящая дни своей работе в Национальном учредительном собрании, отдыхает вечером от своих законодательных трудов в игорных клубах и притонах, где ведет очень крупную и азартную картежную игру. Все это было совершенно справедливо. Враги епископа отенского не хотели понять, что карты — дело неверное, что серьезные люди (а Талейран был прежде всего человеком касательно дел своего кармана серьезным и вдумчивым) должны неминуемо заботиться о более верных заработках и что только этим и объясняются две операции, к которым принужден был прибегнуть приблизительно тогда же епископ-законодатель: во-первых, он обратил внимание испанского посла в Париже, приехавшего возобновить договор с Францией, на то, что он, Талейран, между многим прочим, заседает также в дипломатическом комитете Национального собрания, и испанский посол в ответ на это сообщение подарил Талейрану сто тысяч долларов американской монетой в знак уважения испанского правительства к его душевным качествам; а, во-вторых, Талейран тою же осенью 1789 года выпросил у своей любовницы, графини Флао, драгоценное ожерелье, которое немедленно и заложил в парижском ломбарде за девяносто две тысячи ливров. Обе эти операции стали широко известны и были приняты общественным мнением без всякого сочувствия к практическим талантам первосвятителя Отенской епархии.
Но теперь (на время) значительное большинство Учредительного собрания и задававшего всему тон буржуазного общественного мнения решительно превозносило Талейрана. Услуга, оказанная им по части церковных земель, даже преувеличивалась. Сразу он выдвинулся в первые ряды руководящих законодателей. Даже те, кто не верил его искренности, считали, что он бесповоротно сжег за собой все корабли и что уж по одной этой причине революция может отныне вполне доверять ему. Зато ярости в лагере аристократии и особенно среди духовенства не было предела. «Без таланта, с небольшим умом, с большим самодовольством, мошенничая при Калонне на бирже, оскорбляя пристойность в своем серале», — так жил и таков был прежде епископ отенский; «а теперь он холодно воспринимает уколы презрения, он советует воровать, преподает клятвопреступление и сеет раздоры, возвещая при этом мир». Так (в стихах) воспевала Талейрана контрреволюционная газета «Les Actes des Apôtres» по поводу секвестра церковных имуществ.