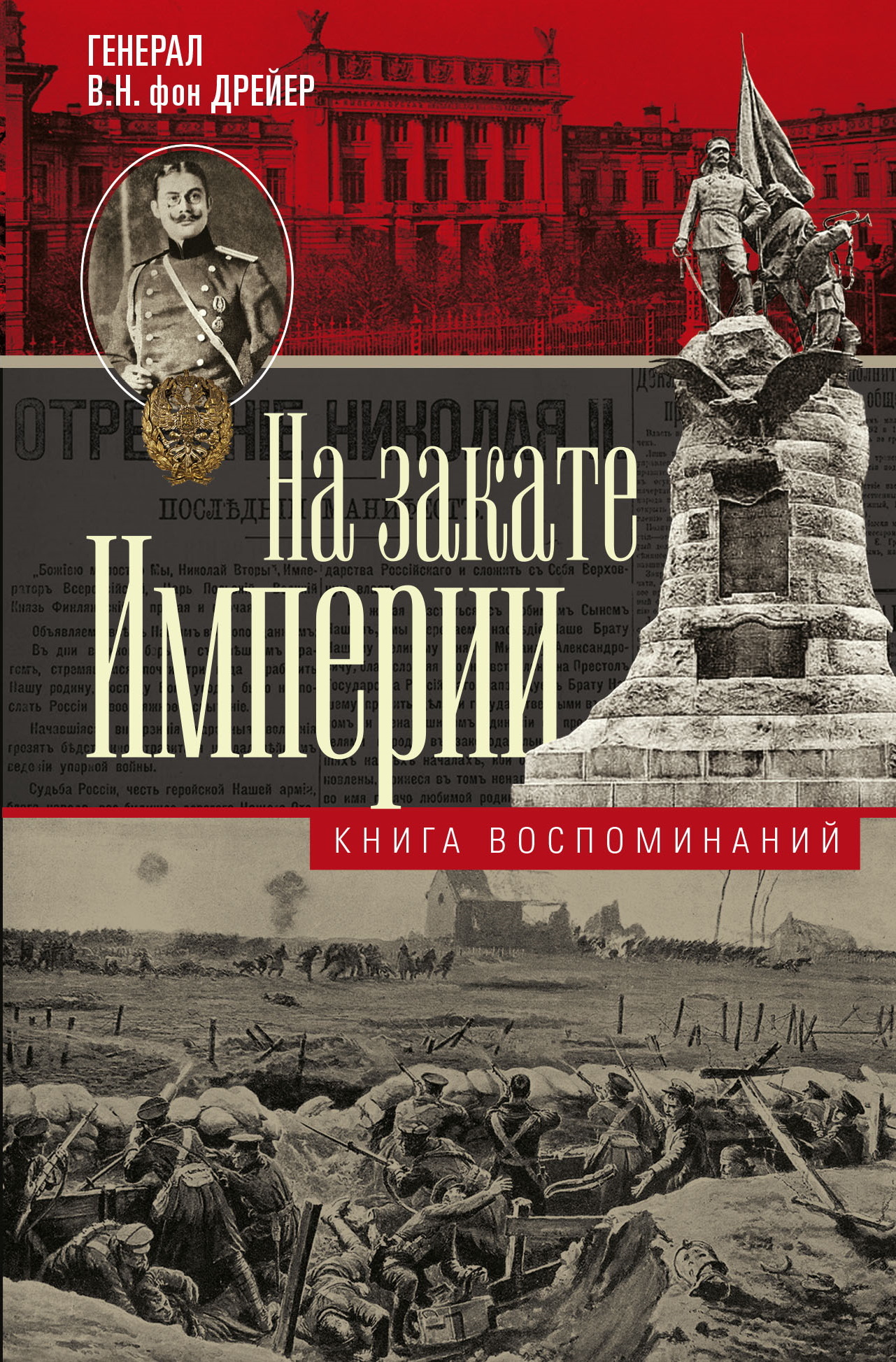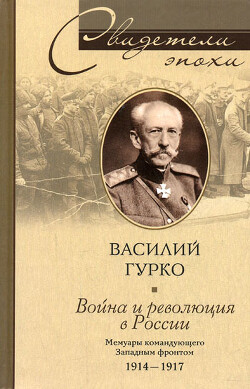приятелями, за которых, кстати сказать, неизменно платил. Вокальная программа всегда начиналась заунывной песнью:Наколола ноженьку на былинку…Болит моя ноженька, да недолго,Недолго, немало, три годочкаУехал мой миленький в городочек.В чистом поле яблонька не у места,А я у мамашеньки не невеста…
Окончание мною Академии Генерального штаба по первому разряду было ознаменовано грандиозным кутежом в «Аквариуме», куда мой дядюшка просил позвать десяток моих ближайших товарищей по выпуску. Само собой разумеется, что по счету платил он. В отдельном кабинете шампанское лилось рекой, приглашенные певички-француженки канканировали; хоры, русский и цыганский, сменяли друг друга, метрдотель Заплаткин, которого Николай Иванович за глаза называл «светлая личность», разрывался на части, стараясь как можно лучше нам услужить.
В числе приглашенных находился мой коллега по выпуску Иван Павлович Романовский, впоследствии начальник штаба Деникина в Гражданской войне, убитый в 1920 году в Константинополе в русском посольстве неизвестным офицером [19].
Причисление к Генеральному штабу
Вот и закончилось почти трехлетнее обучение военным наукам, и началась служба причисленного к Генеральному штабу молодого офицера.
Все мы при окончании получили следующий чин и по существующему закону направились сперва на лагерные сборы в округа по своему выбору, дабы с осени начать прохождение стажа командования ротой. Офицеры кавалерии и конной артиллерии прикомандировывались к кавалерийским полкам, где им давали эскадрон.
Получив образование в пехотном училище, прослужив четыре года в артиллерии, я захотел пройти сборы в рядах регулярной конницы.
Блестящие юнкера Николаевского училища – «моншеры», затем элегантные кавалерийские офицеры, адъютанты туркестанского генерал-губернатора, – были всегда предметом моей зависти. Теперь, явившись в штаб Виленского округа и пробыв две недели в лагерях в литовских болотах, я просил о назначении меня в отдельную кавалерийскую бригаду в Борисов.
Разрешение было дано, и в конце июня 1903 года я явился к командующему бригадой генерал-майору Ренненкампфу.
* * *
На всякого, кто видел Ренненкампфа в первый раз, он производил потрясающее впечатление. Выше среднего роста, атлетического сложения, с большими серыми глазами, звучным голосом, покрывавшим на учениях звуки труб и конский топот, с двумя Георгиевскими крестами, только что полученными за китайский поход, Павел Карлович Ренненкампф являл собой совершенно законченный тип прирожденного военного.
Отлично образованный, числившийся по Генеральному штабу, порой остроумный, необыкновенно жизнерадостный и почти всегда веселый, он поражал своей простотой в отношениях с подчиненными, особенно с молодыми офицерами.
За всю свою долгую службу я не знал ни одного человека, который бы так любил военное дело. Чрезвычайно требовательный по службе, и это особенно чувствовалось старшими начальниками, Ренненкампф являлся непревзойденным учителем для солдат и офицеров.
Но, как и у всякого, у него, конечно, были свои недостатки.
Например, он не отличался справедливостью и беспристрастностью и выискивал всякие способы, чтобы извести подчиненного, который ему почему-либо не нравился. Любимчиков, часто малоспособных, он, наоборот, выдвигал.
Из двух командиров полков один, полковник Мезенцев, командир Иркутского полка, милейший старик, пользовался полнейшей симпатией начальника, хотя службой себя не утруждал.
Второй, Трамбицкий, Тромбон, как его за глаза называли, молодой, прошедший два курса академии, отлично ведший свой Архангелогородский драгунский полк, был самый несчастный человек. Ренненкампф систематически отравлял ему существование. Дня не проходило, чтобы в приказе по бригаде не было какого-либо язвительного замечания по адресу Тромбона. В конце концов бедный Трамбицкий не выдержал и ушел, получив другой полк.
Ренненкампф в Борисове ежедневно выезжал на учения полков и как вихрь носился по громадному плацу, отдавая приказания, делая замечания и, наконец, давая приказ к «немым учениям» – маневрированию по сигналу трубача.
С учений, в сопровождении дочери, которая ждала отца на опушке леса вблизи плаца, Ренненкампф карьером мчался домой, рубя по дороге шашкой молодые сосны. «Рубка», а на ней оказались помешаны все, была излюбленным занятием Ренненкампфа после учений.
По вечерам, примерно раз в неделю, в полковых собраниях играла музыка, молодежь танцевала. Ренненкампф, приведя свою жену, а это была третья, засаживался за карты.
История его женитьбы, за год перед этим, долго была притчей во языцех. Молодая, довольно красивая женщина, всегда молчаливая, она, несмотря на свое высокое положение – жены старшего начальника, – чувствовала себя какой-то потерянной среди общего веселья. Вначале поражало всех, что «молодой» муж не обращал на нее ни малейшего внимания и редко с ней разговаривал. На одном из таких вечеров, во время танцев, она вдруг почувствовала себя дурно. Все заволновались, кинулись к Ренненкампфу, игравшему в карты.
Не вставая из-за стола, не оборачиваясь, он только бросил своему адъютанту по хозяйственной части, любимцу Сергееву:
– Михаил Иванович, отведите ее домой.
Дома она почти всегда и оставалась, посещая изредка лишь семью богатого помещика Колодеева.
Второму адъютанту Зарецкому, который часто бывал с докладами у Ренненкампфа и приглашался к столу, она рассказывала, что от скуки открыла раз ящик письменного стола генерала и увидела там в удивительном порядке пакетики писем, завязанных разноцветными ленточками. Это была переписка со знакомыми дамами. Открытие это произвело очень тяжелое впечатление на бедную, оставленную дома Евгению Дмитриевну.
Помню, говорил Зарецкий, что как-то за ужином Евгения Дмитриевна спросила генерала – он был нумизмат, – что означает надпись на одной из монет: «Не нам, не нам».
Генерал ответил тоном раздражения: «Не нам, не нам, а денщикам», очевидно желая отметить, что жена была плохой хозяйкой, с его точки зрения. Чувствовалось, что с каждым днем нарастало неудовольствие, и Ренненкампф редко оставался дома, покидал жену, отправляясь в соседний дом к полковнику Синицыну, где с его женой, крупной, полной дамой, играл в винт. Года через полтора во время Русско-японской войны последовал развод, и он женился в четвертый раз, в Сибири.
* * *
По окончании полковых и бригадных учений начались малые маневры для подготовки к большим, в районе Минска. Для меня лично все это было чрезвычайно интересно и ново. Полки оставались в поле почти целый день, а к вечеру наш небольшой штаб – три офицера и сам Ренненкампф – занимали в ближайшей деревне «халупы», где и располагались на ночлег.
Для дневки обычно выбиралось местечко или уездный городок, где отдых проходил довольно интересно. Хорошо пообедав, выпив по две-три рюмки водки и съев каждый полсотни раков, а Ренненкампф мог съесть и полторы, мы выходили на прогулку.
Появление кавалерии в еврейском местечке или городке производило необычайную сенсацию. Молодые барышни облекались в свои праздничные платья и к вечеру выходили гулять по кругу в местном сквере или городском саду.
Мы тоже прихорашивались, и Ренненкампф, колонновожатый, весело произносил: «Идем смотреть выводку кобылиц!»
Девицы сперва конфузились, потом делались более смелыми и на громкие комплименты генерала хихикали и дарили его своей улыбкой. Расставив ноги, выпятив богатырскую грудь, на которой гордо красовались два белых креста, Ренненкампф, не стесняясь, делал комплименты.
– Посмотрите, какая красавица, а какие буфера!
О менее красивых