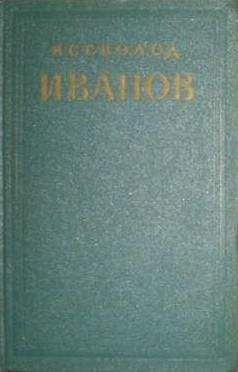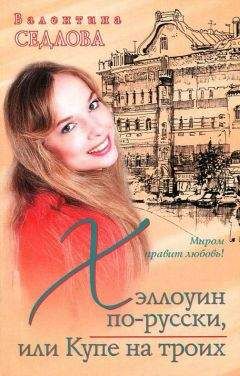Син Бин-у отдыхал на песке, у моря. Снизу тепло, сверху тепло, словно сквозь тело прожигает и калит песок солнце.
Ноги плещутся в море, и когда теплая, как парное молоко, волна лезет под рубаху и штаны, Син Бин-у задирает ноги и ругается:
— Цхау-неа!..
Син Бин-у не слышал, что говорит густоусый и высоконосый русский. Син Бин-у убил трех японцев, — и пока китайцу ничего не надо, он доволен.
От солнца, от влажного ветра бороды мужиков желтовато-зеленые, спутанные, как болотная тина, и пахнут мужики землей и травами.
У телег пулеметы со щитами, похожими на зеленые тарелки, пулеметные ленты, винтовки.
На телеге с низким передком, прикрытой рваным брезентом, метался раненый. Авдотья Стещенкова поила его из деревянной чашки и уговаривала:
— А ты не стони, пройдет!
Потная толпа плотно набилась между телег. И телеги, казалось, тоже вспотели, стиснутые бушующими людьми.
— О-о-о-у-у-у!..
Вершинин с болью во всем теле, точно его подкидывал на штыки этот бессловный рев, оглушая себя нутряным криком, орал:
— Не давай землю японсу-у!.. Все отымем! Не давай!
И никак не мог закрыть глотку. Все ему казалось мало. Иные слова не приходили.
— Не да-ва-й!..
Толпа тянула за ним:
— А-а-а!..
И вот на мгновенье стихла. Вздохнула.
Ветер нес запах пота.
Партизаны митинговали.
Лицо Васьки Окорока, рыжее, как подсолнечник, буйно металось в толпе, и потрескавшиеся от жары губы шептали:
— На-роду-то… Народу-то мильёны, товарищи!..
Высокий, мясистый, похожий на вздыбленную лошадь,
Никита Вершинин орал с пня:
— Главна — не давай-й!.. Придет суда скора армия… советска, а ты не давай… старик!..
Как рыба, попавшая в невод, туго бросается в мотню, так кинулись все на одно слово:
— Не-е да-а-а-вай!!
И казалось — вот-вот обрушится слово, переломится и появится что-то непонятное, злобное, как тайфун.
В это время корявый мужичонка в шелковой малиновой рубахе, прижимая руки к животу, пронзительным голоском подтвердил:
— А верю, ведь верна!..
— Потому — за нас Питер… Бояться нечего… Японец-что, японец легок… кисея!..
— Верна, парень, верна! — визжал мужичонка.
Густая, потная тысячная толпа топтала его визг:
— Верна-а…
— Не да-а-ай!..
— На-а!..
— О-о-о-у-у-у!!
— О-о!!!
XVПосле митинга Никита Вершинин выпил ковш самогонки и пошел к морю. Он сел на камень подле китайца, сказал:
— Подбери ноги — штаны измочишь. Пошто на митингу не шел, Сенька?
— Нисиво, — проговорил китаец, — мне ни нада… Мне так зынаю, зынаю псе… шанго.
— Ноги-то подбери!
— Нисиво. Солнышко тепыло еси. Нисиво-а!..
Вершинин насупился и строго, глядя куда-то подле китайца, с расстановкой сказал:
— Беспорядку много. Народу сколь тратится, а все в туман… У меня, Сенька, душа пищит, как котенка на морозе бросили… да-а… Мост вот взорвем — строить придется.
Вершинин подобрал живот, так что ребра натянулись под рубашкой, как ивняк под засохшим илом, и, наклонившись к китайцу, с потемневшим лицом испытующе спросил:
— А ты… как думаешь… А? Пошто эта, а?..
Син Бин-у, торопливо натягивая петли на деревянные пуговицы кофты, оробело отполз.
— Ни зынаю. Гори-гори!.. Ни зынаю!..
Вершинин, склонившись над отползающим китайцем, глубоко оседая в песке тяжелыми сапогами, тоскливо и не надеясь на ответ, спрашивал:
— Зря, что ль, молчишь-то?.. Ну?..
Китайцу показалось, что вставать никак нельзя, он залепетал:
— Нисиво!.. Нисиво не зынаю!..
Вершинин почувствовал ослабление тела, сел на камень.
— Ну вас к черту!.. Никто не знат, не понимат… Разбудили, побежали, а дале что?..
И, осев плотно на камне, как леший, устало сказал подходившему Окороку:
— Не то народ умом оскудел, не то я…
— Чего? — спросил тот.
— На смерть лезет народ.
— Куда?
— Броневик-то брать. Миру побьют много. И то в смерть, как снег в полынью, несет людей.
Окорок, свистнув, оттопырил нижнюю губу.
— Жалко тебе?
Подошел Знобов; подмышкой у него была прижата папка с бумагами.
— Подписать приказы!
Вершинин густо начертал на бумаге букву «В», а подле нее длинную жирную черту.
— Ране-то пыхтел-потел, еле-еле фамилию напишешь, спасибо догадь взяла, поставил одну букву с палкой — и ладно… знают.
Окорок повторил:
— Жалко тебе?
— Чего? — спросил Знобов.
— Люди мрут.
Знобов сунул бумажку в пачку и сказал:
— Пустяковину все мелешь. Чего народу жалеть? Новой вырастет.
Вершинин сипло ответил:
— Кабы настоящи ключи были. А вдруг, паре, не теми ключами двери-то открыть надо?
— Зачем идешь?
— Землю жалко, японец отымет.
Окорок беспутно захохотал.
— Эх вы, землехранители, ядрена зелена! И-их!..
— Чего ржешь? — с тугой злостью проговорил Вершинин. — Кому море, а кому земля. Земля-то, парень, тверже. Я сам рыбацкого роду…
— Ну, пророк?
— Рыбалку брошу теперь.
— Пошто?
— Зря я мучился, чтоб в море идти опять. Пахотой займусь. Город-то обманыват, пузырь мыльнай, в карман не сунешь.
Знобов вспомнил город, председателя ревкома, яркие пятна на пристани — людей, трамвай, дома — и сказал с неудовольствием:
— Земли твоей нам не надо. Мы, тюря, по всем планетам землю отымем и трудящимся массам — расписывайся!..
Окорок растянулся на песке рядом с китайцем и, взрывая ногами песок, сказал:
— Японскова микадо колды расстреливать будут, вот завизжит! Патеха-а!.. Не ждет поди, а, Сенька? Как ты думаешь, Егорыч?
— Им виднее, — нехотя ответил Вершинин, — японцам-то.
Над песками — берега-скалы, дальше горы. Дуб. Лиственница. Высоко на скале человек в желтом, — как кусочек смолы на стволе сосны, часовой.
Вершинин, грузно ступая, пошел между телегами.
Син Бин-у сказал:
— Серысе похудел-похудел немынога… а?
— Пройдет, — успокоил Окорок, закуривая папироску.
Син Бин-у согласился:
— Нисиво.
XVIКорявый мужичонка в малиновой рубахе поймал Вершинина за полу пиджака и, отходя в сторону, таинственно зашептал:
— Я тебя понимаю. Ты полагаешь, я балда балдой. Ты им вбей в голову, поверют и пойдут!.. Самое главное — в человека поверить…
— Человек бывает разный, — сказал Вершинин, — а правда одна…
— Советская? — подхватил корявый мужичонка.
— Другой не ищем.
— А я какую ищу?.. Ту же самую! Чтоб той правде человек вровень был. Я тебя считаю ей вровень, Никита Егорыч! Я считаю, ты им, мужикам-то, правду во всей красе разъяснить можешь.