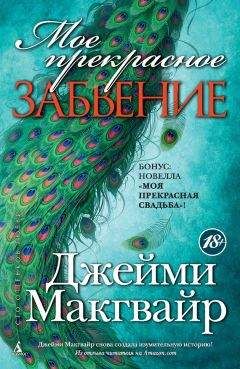Однажды Снегирев на лекции, зная мою скромность, нарочно заставил меня переводить из Горация или из Вергилия неприличное место; студенты засмеялись. Снегирев, сделав мину, сказал мне: «Не смущайте г. Аксакова». Студенты засмеялись еще больше. Я весь вспыхнул, но, удержав себя, дождался конца лекции. Пока Снегирев, встав, говорил с некоторыми студентами, я вышел в переднюю и стал дожидаться Снегирева, чтоб объясниться с ним. В волнении я был страшном, и оно выражалось на моем лице. Я помню, как один студент не нашего курса, Барсов, подошел ко мне и спросил: «Что с вами, Аксаков?» – «Ничего», – отвечал я. Студент ушел, и потом я узнал, что он говорил другим студентам, что я скоро умру: в таком положении он меня видел. Наконец Снегирев показался. Я подошел к нему. «Вы нынче смеялись надо мною», – сказал я ему с таким видом и таким голосом, которые были красноречивы. «Я? – сказал, смутившись, Снегирев, – помилуйте, Аксаков, я?» – «Да вы; вы обратились к моим товарищам, вы в насмешку просили их не смущать меня». – «Я с добрым намерением». – «Однако товарищи мои засмеялись. Как бы то ни было, прошу вас вперед подобного ничего не делать, а не то…» Я не успел договорить, показался Погодин, которого Снегирев бегал. Снегирев поклонился мне и ушел. С той поры все время Снегирев был со мною в отличных отношениях. Я помню, мне говорили знакомые, что этот случай очень возвысил меня во мнении студентов.
Не любя непристойностей, я не прочь был немного безобидно побуянить, пошуметь, попробовать силу. На третьем курсе, идя однажды в таком расположении духа, я и еще человека четыре студентов, по Кисловке с лекции, – помню, что Сазонов был в числе, пошли мы рядом посередине улицы и принуждали сворачивать экипажи, крича: «Объезжай». Решительный вид молодых людей заставлял исполнить их требования, но некоторые из товарищей простерли это безобидное буйство до непозволительного: они вздумали говорить любезности попавшейся девушке. Я громко этому воспротивился, сказал, что это дурно, никуда не годится, объявил, что не хочу идти с ними, и взошел на тротуар. Товарищи взошли и сами, оставив девушку в покое, и мы продолжали путь мирными гражданами.
На второй курс, когда мы были на третьем, поступил к нам в аудиторию невыносимейший студент Соловьев, забияка, и трус, и шут в одно и то же время. Однажды он до того приставал к Казаринову, что ударил его в лицо и расшиб ему нос до крови. «Вот я так и пойду к инспектору!» – заревел Соловьев. – «Стой! – закричали студенты. – Не смей ходить; мы это дело покончим сами». Студенты подошли с Соловьевым к Казаринову и окружили их обоих. – «Казаринов, ты ударил Соловьева? Проси прощенья». – Казаринов медлил. – «Проси прощенья!» – крикнули студенты. – «Прошу», – сказал Казаринов. Ободренный Соловьев закричал, торжествуя: «Нет, скажи: прошу прощения!» Слова его, при его нелепом голосе и выражении торжества на лице, возбудили всеобщий смех. Казаринов сказал: «Прошу прощенья!», – и суд кончился.
На третьем курсе явился у нас новый профессор Измаил Щедритский. Трудно найти противнее человека: разврат и пьянство выражались на его лице; он был груб донельзя: преподавал свой предмет, статистику, самым дурацким образом. Прежде он читал в политическом отделении; теперь на его лекциях соединялись студенты обоих отделений, и политики приходили к нам, садясь особо на одной стороне аудитории. Щедритский уж и при нас сказал несколько грубостей некоторым студентам. Приближались репетиции; на них можно было ожидать грубостей еще более. Мы, словесники, сильно возмущались. Я сказал студентам: «Господа, если Щедритский скажет грубость хоть одному словеснику, встанем всем отделением и торжественно, мимо самого Щедритского, выйдем из аудитории». Решенье было принято, но Щедритский, быть может, узнав о нем, не подал нам повода исполнить наше намерение.
Во время наше каждый месяц, в субботу кажется, заставляли студентов всходить на кафедру и читать что-то вроде лекции. Дело это не пошло, и на этом не настаивали. Кажется, произошло такое учреждение после чтения лекций при министре, чтения крайне неудачного. Зная, что будет такое чтение, Ив. Ив. Давыдов заранее взял свои меры и сказал некоторым студентам приготовиться, в том числе и мне. Впрочем, на меня, кажется, он мало надеялся. В назначенный день явился министр в сопровождении многочисленных посетителей. Вызван Толмачев, взошел на кафедру и сильно срезался. За ним вышел Соловьев, врал немилосердно, только и слышалось: нуменон, феноменон. Уваров пустился с ним в рассуждение и, когда Соловьев окончил свое вранье, сказал, что, по крайней мере, Соловьев говорил свое; а тот, подходя к нам, выговорил только: «Посмотрите-ко, как я вспотел». После двух таких неудач очередь дошла до меня; я должен был читать о лирической поэзии. Сконфузившись сильно, я не вдруг заговорил; да надо было и сообразить сперва, что говорить, ибо я не ожидал, что буду читать лекцию. Уваров сказал: «Вы конфузитесь, я отодвинусь в сторону». Я наконец заговорил. Уваров приписал это тому, что он отодвинулся. Кой-как я продолжал жалкую лекцию, говорил о Державине, о том, что он не чуждался простонародных слов, и привел стихи:
Ретивый конь, осанку горду
Храня, к тебе порой идет;
Крутую гриву, жарку морду
Подняв, храпит, ушьми прядет.
«Где же тут простонародное слово?» – спросил меня Уваров. «Морда», – отвечал я ему. Он был очень доволен. Лекция окончилась; других чтений, сколько помню, не было. Студенты говорили, что я еще хорошо прочел; но я знал, что весьма плохо.
В 1835 году праздновали день основания университета, ровно 20 лет тому назад. Мне было семнадцать лет. Однажды Давыдов, после или прежде своей лекции, объявил мне, что профессора просят меня написать стихи на этот день; Давыдов, говоря это, обнимал меня как-то сбоку, называл: «товарищ». Я согласился охото и здесь должен повиниться в том, что и теперь лежит на моей совести. В извинение себе скажу, что я тогда еще многого не успел себе определить. Я знал, что надобно приделать официальное окончание, и, чтоб облегчить себе эту необходимость, я окончил свои стихи стихами Мерзлякова, в которых собственно лести нет, но которые имеют казенный отпечаток.
Вот эти стихи:
Цвети, наш вертоград священный,
Крепися в силах, зрей в плодах,
Как был, пребуди неизменный
Общественных источник благ!
Под Николаевым покровом
Явись в величье, в счастье новом!
В доказательство, как были еще не ясны мои мнения, я могу привести следующие стихи из того же моего стихотворения:
И Русь счастлива! Гений мочный.
Великий царь страны полночной
Восстал и смелою рукой
Разбил неведенья оковы
И просвещенья светоч новый
Зажег в стране своей родной.
Он нетерпением кипел
И, мыслью упреждая время,
Насильно вырастить хотел
Едва посаженное семя;
Но семя то из рук Петра
На почву добрую упало,
И подвиг славы и добра
Елисавета продолжала!
Написав свои стихи, я должен был приехать к Давыдову и их ему прочесть; он принял стихи, исключив только начало, как не идущее к делу. Стихотворение начиналось так: