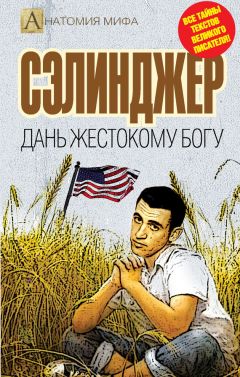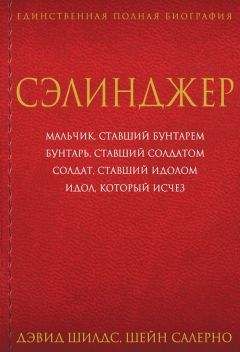Ознакомительная версия.
В конце февраля 2008 года было опубликовано очередное исследование «Pew Forum on Religion and Public Life» – вашингтонской организации, которая собирает информацию о роли религии в американском обществе и делает ее достоянием широкой публики. В этом исследовании есть интригующие данные. Оказывается, 28 процентов американцев хотя бы раз в жизни сменили свою конфессиональную принадлежность. А если посчитать протестантов, которые перешли из одной церкви в другую (как известно, таких церквей в США не счесть), то получится и вовсе 44 процента. Дальше – больше. 16,1 процента отпали от какой-либо религии, но не присоединились к другой. Причем среди молодежи от 18 до 29 лет таких – каждый четвертый. Однако неверующих в их рядах совсем немного. Атеистами называют себя 1,6 процента, агностиками – 2,4. Остальные существуют вне организованной религии. Из них половина – религиозно индифферентна, другая – находится в духовном поиске.
Это ищущие, которые толком не прибиваются ни к одной конфессии, но религиозность не теряют и в этом смысле наследуют NewAge. И эта тенденция становится сейчас ключевой, ведь она представлена по преимуществу молодежью. Если она сохранится, внеконфессиональная вера станет чуть ли не главной чертой религиозной жизни США. Новое исследование показывает, что монолит веры, который являет собой Америка остальному миру, на самом деле нечто динамичное и подвижное, как ртуть.
Сэлинджер был предтечей такой религиозности, той каплей ртути, которая одной из первых стала совершать причудливые движения, влекомая невидимым импульсом.
На первый взгляд, ее появление объясняется просто. Америка – колоссальный рынок религий, где царит интенсивная конкуренция. Миссионерская охота за душами в условиях глобализации выходит за рамки традиционных для США религий. Тут тебе и буддизм, и индуизм, и масса иных соблазнов. Может быть, дочь Сэлинджера все же права? Ведь недаром критики NewAge – да и продвинутые его адепты – признают, что поиск нового религиозного опыта сродни поиску нового товара в супермаркете, где на прилавки в изобилии вываливают все новые экзотические продукты.
Но получается, что миссионеры остаются с носом. Американцы не стремятся строго следовать религиозным предписаниям, а ищут смысл существования и, будучи закоренелыми индивидуалистами, создают собственные рецепты спасения – пригоршня йоги, горсть христианского мистицизма, щепоть научной соли и оккультного перца. Однако эта духовная пища слишком остра и может не пойти впрок. Вместо того чтобы погрузиться вглубь, человек останется на мелководье. Так-то оно так, но если этот человек – художник, результат может оказаться иным.
Каждый пишет, как он дышит
Проблема писателя, увлекшегося духовными поисками, всегда волновала публику. Наносят ли они ущерб его творчеству или поднимают на невиданную прежде высоту? Любопытно сравнить духовную одиссею Сэлинджера с опытом классика XX столетия, которого он числил среди своих учителей, – Франца Кафки. Пражского писателя увлекало учение Рудольфа Штайнера. Он посещал его лекции в марте 1911 года, когда тот еще возглавлял немецкую секцию Теософского общества. Доктор Штайнер создал самостоятельное учение – антропософию – лишь через несколько лет, но основные его взгляды сложились уже к 1911 году.
В дневнике Кафка пишет о Штайнере без чрезмерного пиетета. Для него очевидны риторические приемы, с помощью которых лектор завораживает аудиторию. Однако сверхъестественные способности оккультиста, в которые он склонен верить, вызывают у него почтение. Не меньшее почтение вызывают и разносторонние познания и таланты Штайнера: «Он был очень близок к Христу. Он поставил в Мюнхене свою пьесу (ты можешь изучать ее целый год и все равно ничего не поймешь), сам нарисовал костюмы, написал музыку. Он был наставником некоего химика…» Тем не менее, к восхищению все же примешивается ирония: «Госпожа Ф.: «У меня плохая память». Д-р Шт.: «Не ешьте яиц»»[18].
Кафка решается нанести знаменитому оккультисту визит и рассказать ему о собственном опыте ясновидения. Да, ему знакомы эти состояния, когда он реально живет в своем воображаемом мире. Кажется, это близко к тому, о чем говорит господин доктор. «Но покоя, который, по-видимому, приносит ясновидящему вдохновение, в этих состояниях почти не было». Во всяком случае, лучшие свои работы он написал не тогда. Между тем, главное для него – писательство, именно в нем он находит редкое счастье. Но писательству страшно мешает необходимость зарабатывать деньги чиновничьим трудом. Это так изматывает. Не добьют ли его окончательно теософские штудии? Впрочем, он готов взвалить на себя и такой груз – вдруг это облегчит его страдания? Что посоветует ему господин доктор?
Мы не знаем, что посоветовал посетителю Штайнер, Кафка об этом не пишет. Но под конец в описании визита слышится откровенный сарказм: Штайнера одолевает насморк, и, пока посетитель изливает ему душу, духовный наставник самозабвенно копается платком в носу. Больше упоминаний о Штайнере и антропософии в дневниках нет. Кафка предпочел быть несчастным человеком, лишь изредка находящим счастье в приступах писательского вдохновения, а не обретшим покой и волю антропософом.
На самом деле вопросы, которые поставил перед Штайнером Кафка, уже заключали в себе ответы. Писатель изначально рассматривал свое призвание как нечто альтернативное духовным поискам. Он был бы рад дополнить одно другим, но боялся, что спиритизм будет мешать творческому вдохновению, вытеснять его вследствие их очевидного сходства. О том, что ответ был ясен ему еще перед началом разговора, свидетельствует и такая деталь. «В его (Штайнера. – Б. Ф.) комнате я пытаюсь выказать робость, испытывать которую не могу, тем, что нахожу самое неподходящее место для своей шляпы…»[19]
Несчастный невротик, идущий к мэтру оккультизма, чтобы вопрошать его о смысле жизни, не испытывает робкого почтения, так как про себя уже понимает, что советы ему ни к чему. Он и сам знает, в чем этот смысл заключается. По крайней мере для него.
Каждый дышит, как он пишет
Не то – Сэлинджер. По мере увлечения восточными практиками в нем растет уверенность, что писательство – тоже средство духовного совершенствования, поэтому жертвовать одним для другого не резон. По сути, это один путь. Более того, спасаясь сам, писатель транслирует свою интуицию читателям, помогая им найти себя в этом мире. Ученик становится учителем. Вовсе не случайно он подарил свами Нихилананде диптих «Фрэнни и Зуи». В нем как раз рассматривается коллизия, произошедшая в душе молоденькой студентки актерского факультета Фрэнни, которая случайно наткнулась на русский духовный текст XIX столетия «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу». Анонимный рассказ, переписанный на Афоне настоятелем Черемисского монастыря из Казанской епархии игуменом Паисием, многократно публиковался в России, а затем и за ее пределами стараниями православных людей, оказавшихся в изгнании.
Ознакомительная версия.