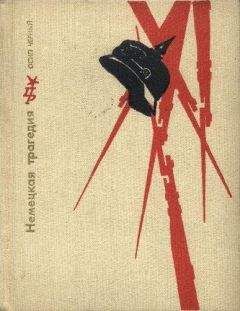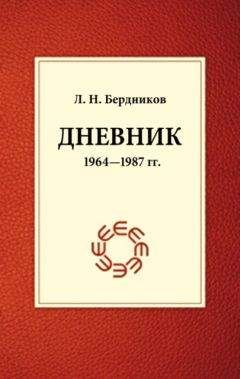Он, Шейдеман, предпочитал искать там, где можно, промежуточные решения и бескомпромиссность относил скорее к чертам дурного характера, чем к убеждениям. Но когда за принципиальность выдают свой скверный характер, тут уже ничего не поделаешь — с такими людьми, хочешь не хочешь, надо сражаться.
Никто другой во фракции не был так несговорчив — ни Гаазе, ни Каутский. Скорее казуист, чем убежденный противник, Каутский если и спорил, то больше по вопросам теории, а не повседневной политики. Между тем Шейдеман был силен именно в практической области: каждодневность, хитроумные зигзаги тактики — вот чему он себя посвятил.
Чутье тактика подсказало ему и шаг, предпринятый в первые дни войны социалистами. Хорошо бы они выглядели теперь, если бы противопоставили себя остальным фракциям! Миллионы немцев заявили себя патриотами, классовая рознь стихийно отошла на десятое место, и вот тут социалистические вожаки вместо спасения родины стали бы толковать о борьбе с магнатами! Да их смели бы с пути те самые массы, интересы которых они призваны защищать!
К счастью, социалисты проявили не только благоразумие, но и мудрость. Вряд ли коллеги по фракции сознают, сколь важный шаг предприняло руководство и какие последствия он повлечет.
Так говорил себе Шейдеман, ожидая начала. Зал заполнился до отказа. На хорах, на местах для прессы было битком набито.
Когда появились кайзер и члены его кабинета, весь зал поднялся. Демонстрация единства возникла стихийно, и социалистам не обязательно было слишком усердствовать. Поднялись они вместе со всеми, а выкрикивать приветствия кайзеру или нет, зависело от темперамента каждого.
Но то ли Шейдеману показалось, то ли так было на самом деле: Либкнехт остался на месте или приподнялся чуть-чуть, с выражением крайней небрежности.
В этом маленьком, но выразительном обстоятельстве так и не удалось разобраться до конца. Неприятностей с ним еще будет достаточно — мысль эта кольнула Шейдемана. Карл обладает чертами фанатика. То, что в натуре отца уравновешивалось врожденным тактом, мягкостью, если хотите, тут вырывается, подобно языкам пламени.
Занятый своими мыслями, он как-то упустил момент, когда заседание началось и слово было предоставлено канцлеру.
Бетман-Гольвег, бледный, с явными следами переутомления, подошел к ораторскому месту не спеша, положил на пюпитр доклад и несколько раз провел рукой по бородке.
Общаясь с ним в эти первые дни, Шейдеман имел возможность присмотреться к канцлеру ближе. Предшественник Бетмана был злом для Германии, этот же если и зло, то гораздо меньшее: он умеет слушать противную сторону, ищет формулировки, которые та могла бы принять, готов идти на сближение с нею. Шейдеман настроился выслушать декларацию внимательно, хотя почти все было в ней заранее согласовано. Сегодняшнее заседание носило характер скорее демонстративный.
На плечо его легла тяжелая рука депутата Носке, он узнал по прикосновению: было в нем что-то требовательное и могильно-холодное.
— Как думаешь, не подведет он нас?
— Кто? — с недоумением спросил Шейдеман.
— Ты хорошо знаешь, кого я имею в виду.
Признать, что оба имеют в виду одну и ту же личность, не хотелось: коллегу Носке он мысленно ставил значительно ниже себя.
— У нас в партии есть прямо пакостные элементы, с ними надо держать ухо востро. Не такое время теперь, чтобы расшаркиваться перед ними.
Разговор, неслышный другим, все же стеснял Шейдемана. А Носке, придвинув к нему лицо, шептал в самое ухо:
— Как он держался на фракции, просто скандал! Надо было расправиться с ним в самом начале.
— Вот когда партия поручит тебе, ты и расправишься.
— Не пугай меня, я не из тех, кто бежит в кусты. Я бы живо с ним сладил.
В любом коллективе много разных, совершенно несхожих людей. Но Либкнехт и Носке… Что получилось бы, если бы Либкнехт или, наоборот, Носке получил в партии полноту власти? Носке с его прямолинейностью и Либкнехт с его фанатизмом. История хорошо рассудила, что после смерти Августа Бебеля в прошлом году поставила во главе партии людей умеренных и спокойных.
Либкнехту, сидевшему сзади, через два ряда от них, были видны спины Шейдемана и Носке — круглая и благообразная у одного и костлявая, длинная у другого. По тому, какой взгляд метнул в него Носке, можно было догадаться, что разговор скорее всего о нем. Либкнехта переполняло негодование. Эти господа принудили его пойти против собственных убеждений! Понятия азбучные для революционера они сумели облечь в одежду мерзкого псевдопатриотизма! Уверенное ощущение своей власти, дух самодовольного упоения собой — все было ненавистно в них. Не первый год он с ними сражался, но сегодня они сумели вывести его из игры, связать по рукам и ногам. Партийная дисциплина, заветы вождей старшего поколения — все выдвинуто против него, и он безмолвен. Вместо того чтобы взорвать это напыщенное собрание предателей и врагов человечества, он принужден молчать…
Ему было неудобно в кресле, он то и дело менял положение, доставал папиросу, мял в пальцах и опять клал в карман. Казалось, он совсем не следит за оратором.
…Шейдеман тоже упустил что-то в выступлении канцлера. Повернув голову к Эберту, сидевшему справа, он справился:
— Повтори, пожалуйста, Фридрих: что он сказал?
— Надо слушать самому…
В плотном и как будто спрессованном теле Эберта, в прищуренных узких глазах мелькнуло недовольство. Он не любил, чтобы его отвлекали.
Но инстинкт политика, всегда улавливающего кульминацию, сказался в Шейдемане: он вовремя вернул себе внимание.
Канцлер произнес несколько расплывчатых фраз — что-то о спокойствии маленькой страны, которое пришлось нарушить во имя высших интересов самообороны.
В зале повисла напряженная тишина, но с нею словно бы опоздали; что-то проскользнуло в его словах, тревожное и не совсем понятное.
Нет, как же так получилось? Только что Бетман говорил о доблести армии, преданной кайзеру. И вдруг слова о стране, народ которой может быть спокоен: Германия всегда относилась со вниманием к малым странам и в свое время вернет ей все прерогативы власти.
Если бы не торжественная обстановка, можно было бы потребовать с места, чтобы канцлер уточнил, что следует понимать под этим. Но, обойдя бугорок, декларация его потекла дальше плавно и гладко.
После особенной тишины, овладевшей залом, послышалось что-то вроде общего вздоха. Справа всплеснулись аплодисменты, но всеобщее «тсс» погасило их, как будто засыпало пеплом. Правые, надо думать, поняли сами, что подчеркивать это место вовсе не в их интересах.