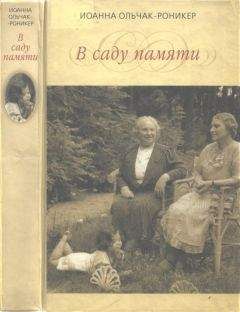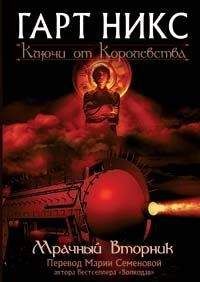Половина моих школьных подружек была семитского происхождения, что, однако, по причине их абсолютной ассимиляции никакого значения не имело. И ни разу ни один из учителей никого из нас этим не попрекнул и вообще никак не задел, — подчеркивала бабушка с благодарностью. По-видимому, таковой факт считался ею чем-то из ряда вон выходящим.
В пансион дам Космовских она попала случайно, благодаря своему упорству, но при весьма драматичных обстоятельствах. Там уже несколько лет учились ее старшие сестры: Флора, Гизелла, Роза и Генриетта. Ее же записали в пансион Изабеллы Смоликовской (в будущем Гевельке), поскольку школа находилась ближе к дому, а девочка начала школьные занятия в отсутствие матери, которая как раз тогда повезла покалеченного Макса в Берлин к врачам.
Несколько месяцев назад умер отец, девятилетняя девочка еще хорошо помнила религиозный распорядок, которого он придерживался. Школьные занятия начались в понедельник. Новая ученица, сообразительная и послушная, прекрасно справлялась с заданиями. До субботы. В субботу детям дали писать сочинение. Она одна не открыла тетради и сидела, ничего не делая. Удивленному преподавателю она пояснила, что в шаббат ей нельзя брать в руки перо. Преподаватель пожаловался начальнице, а та отреагировала по-своему: не потерпит в своей школе подобного поведения. В ответ гордая девчушка, которой предстояло стать моей бабушкой, сложила книги в ранец и, ни слова не говоря, удалилась домой. На следующий день Жанетта заявила сестрам, что не переступит порога школы пани Смоликовской. Через несколько дней девочки убедились, что малышка не уступит, ничего не оставалось, как взять ее с собой в пансион дам Космовских. По-видимому, там к ее принципам отнеслись серьезнее и уважительнее, и она сама от них довольно быстро отказалась. С сожалением или без? Не знаю.
Обе начальницы, сестры Космовские, почтенные, в солидном, как мне казалось тогда, возрасте, большие патриотки, ставили во главу угла нравственное воспитание. Уважаемые всеми нами, они пользовались огромным авторитетом. Не припомню ни одного случая, чтобы какая-нибудь из учениц упрямилась или была недовольна своими начальницами. Особенно нас восхищала строгая, но всегда справедливая пани Леокадия, — писала в своих воспоминаниях бабушка. Здесь, как и в государственной гимназии, официально полагалось уроки вести на русском языке, но учителя, игнорируя требования, проводили их по-польски, а в часы, отведенные для занятий по ручному труду и рисованию, с большими предосторожностями преподавали отечественные предметы — литературу, историю и географию Польши. Разоблачение мало-мальского нарушения обязательных предписаний, если вдруг нагрянет инспекция, грозило суровым наказанием, вплоть до ликвидации самой школы. Девочки, стало быть, осваивали еще и законы конспирации: по определенному сигналу запрещенные книги и тетради прятались в специальные укрытия, а девочки, дабы провести инспектора, прибегали к разного рода ухищрениям. При его появлении, например, на переменах начинали громко тараторить по-русски, а на уроке учительница вызывала к доске ту отличницу, которая могла без запинки назвать всех царей вместе с их огромным числом родственников.
Учителя-поляки были людьми светлого ума и широких взглядов. Так, в частности, истории Польши — естественно, тайно — учила Ядвига Щавиньская (в будущем Давид), известная в мире общественная деятельница и учредительница Летучего университета — высшего в Польше нелегального учебного заведения для женщин. В молодые головки не только вбивались даты и факты истории: прежде всего разъяснялись главные требования позитивизма, утверждавшего, что жить надо для других, а не для себя. Эти наставники, прививая социальную активность, ответственность, бескорыстие и жертвенность, умели в то же время пробудить в детях любопытство и потворствовать научному энтузиазму. Из школьных лет моя бабушка вынесла значительную сумму знаний и интересов. Увлечение ботаникой научило ее различать растения и составлять из них гербарии, знать польские, русские и латинские названия каждой травы и цветка, которые попадались во время прогулки по лугам. Собирая цветы в огромные букеты, она с любовью и пониманием говорила об их природе и особенностях.
Особую тягу бабушка всегда испытывала к чтению, но именно в пансионе у нее возникла подлинная страсть к поэзии, привычка переписывать в толстые тетради красивым каллиграфическим почерком стихи, которые произвели на нее наиболее сильное впечатление. Эти тетради сопровождали ее всю жизнь. Поначалу скромненькие, клеенчатые пансионные тетрадочки, позднее элегантные альбомы в сафьяновых и парчовых переплетах. Во время войны она склеивала их из разных листочков бумаги, какие случайно попадали ей под руку, а после войны подбирала мои лихо брошенные и недописанные школьные тетради в обложках землистого цвета.
Менялось и содержание ее тетрадей. Сначала там были Словацкий, Норвид, Гете, Гейне. Позднее — Ленартович, Сырокомля, Уэйский, Конопницкая. Еще позже пробуждавший дивную дрожь Тетмайер. Позже — авторы собственного ее издательства — Стафф, Тувим, Лесьмян, Павликовская-Ясножевская. Во время войны — Кшиштоф Камил Бачиньский. После войны поэт, казалось бы, совершенно чуждый ее вкусам, но при этом она полюбила его всей душой — Тадеуш Ружевич, какое-то время проживавший по соседству на Крупничей улице. Она записывала эти стихи неизвестно зачем, и все их знала наизусть. Все мое детство протекало под звуки: «Трижды измерил круг месяц на небе», «Как собрался Стах на битву» Ю. Словацкого, «В Сузе король на дворе пирует» К. Уэйского. Или «Под солнцем изжарился старый ленивец» М. Конопницкой…
Потом в издательстве Мортковича появились сборнички поэзии для домашнего чтения, называемые «Лира и Лирочка», в которых были напечатаны эти самые лучшие на свете стихотворения. Часто мне снится один и тот же сон, будто в каком-то антикварном магазине я натыкаюсь на крошечный томик в желтоватой кожаной обложке. И меня охватывает чудесное сладостное чувство… Но просыпаюсь я всегда с пустыми руками.
Школьные годы бабушка всегда вспоминала с большим удовольствием. Охотно рассказывала о перипетиях тех лет и собственном — в пансионе — чувстве патриотизма. При всей относительной свободе занятия по русскому языку и литературе не отменялись. Эти предметы преподавали коренные русские. В своих воспоминаниях бабушка описывает, чем однажды закончилась излишняя с ее стороны фамильярность, какую она себе позволила с преподавателем Юрашкевичем. Он был довольно добродушным и любил с нами поболтать, что как-то вызвало у меня желание съязвить. Слушая его смешной польский акцент, я вдруг спросила: «Вы так давно живете в Польше и не можете научиться правильно говорить по-польски?» На что он, тот час же сменив свой шутливый тон на резкий, жестко парировал: «Не я живу в Польше, а вы — в России». Этот случай дошел до ушей начальницы, которая меня строго отчитала: «С москалями подобным образом не разговаривают».