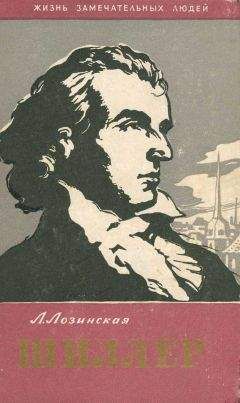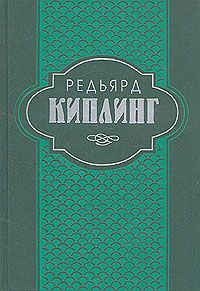— Сколько стоит Изюмский?
Я даже вздрогнул. Не успел посмотреть, что стою… 12 рублей. Обернулся и увидел первого в своей жизни собственного покупателя: здоровенного дяденьку, похожего на грузчика.
Ну ему-то зачем моя книга?
О Маргарите АлигерОдно время вошли в моду встречи Н. С. Хрущёва (на его подмосковной даче) с наиболее видными писателями. И на этот раз там собралось человек двести. За Т-образным столом ближе других к хозяину сидела поэтесса Алигер — худенькая, длинноносая, с бусинками глаз.
Хрущев, разглагольствуя о чести литературы, вдруг сказал, обращаясь к Алигер:
— А вот с вами на войне я в один окоп не сел бы.
И тогда поднимается эта женщина. Лицо её гневно пылало:
— Вы забываете, что я ваша гостья, к тому же — женщина. И позволили оскорбить меня. Я не могу больше оставаться в вашем доме.
Она была в это мгновенье красива.
Высоко подняв голову, Маргарита Иосифовна покинула зал, из солидарности сопровождаемая Валентином Овечкиным.
В эту же осень мы сдружились с Алигер в ялтинском Доме творчества. Она оказалась умнейшим, душевным человеком и… отчаянной любительницей чая.
Вечерами Маргарита Иосифовна приглашала меня к себе в номер и потчевала душистым, мастерски заваренным чаем. Даже на книге своей подаренной написала: «В память о ялтинских чаепитиях». Об инциденте на хрущевской даче нами ни слова не было сказано, больше говорили о современной молодёжи. Но на съезде писателей членом Правления её не избрали. И когда я однажды во время вечерней прогулки с С. Сартаковым спросил его: «Как же такое могло произойти?», он и глазом не моргнув, «пояснил»:
— Досадное недоразумение… По недосмотру машинистки выпала из списка…
* * *
В 1951 г., уже после ухода из Армии в запас, уехал я поработать в ялтинский Дом творчества. Моим соседом по комнате оказался писатель Роман Ким, автор повести «Тетрадь, найденная в Сунчоне». Внешне он очень походил на корейца. Однажды Роман спросил меня:
— Как вы насчет стакана виски со льдом?
Так как я никогда в жизни виски не пил, то меня разобрало любопытство:
— А почему бы и нет?
Завязалась беседа. Роман одинок, никого нет у него на белом свете.
В застолье он мне рассказал свою историю. Он был нашим разведчиком в Японии, как Зорге. Но вот в… — м году его обвинили в шпионаже в пользу Японии, отозвали и приговорили к смертной казни. Сидит в камере-одиночке, ждёт своего конца.
«Комната раза в два больше этой. И вдруг её стали заполнять аппаратурой. Что такое? Оказывается, началась война с Японией, а я знал шифры, аппаратуру как никто другой. Кончилась война, меня помиловали, наградив за боевые заслуги орденом „Красной Звезды“».
Он налил себе ещё стакан виски, бросил в него ледышки.
* * *
Там же в Ялте сблизился я с писателем Григорием Медынским. В его внешности было что-то от священника, да он и происходил из духовенства. Фразу о депутате как «слуге народа» переделал по-своему — «не слуга, а часть его». Правдолюб, максималист, он в это время заканчивал свою «Трудную книгу» — о молодых преступниках-заключённых. Никто не хотел её печатать, уж больно остра, и вдруг нашёлся смельчак Политиздат. Книга имела колоссальный успех, как и его пьеса «Преступление и наказание Антона Шелеста». Мы часами говорили с Медынским на темы воспитания, находя много общих оценок, он об этом и в автографе написал.
Вообще «ялтинские посиделки» в памяти остались на всю жизнь. Вот Виктор Шкловский с головой, похожей на огромный бильярдный шар, говорит:
— Я зашёл к нашему ангелу смерти, спрашиваю его: сколько положено на мои похороны? У меня сейчас денег нет, давайте половину, и мы квиты.
Это он на бракоразводном процессе воскликнул:
— Любовь не судят!
Возле крыльца стоит, опираясь на костыли, одноногий, в кожанке Вадим Собко, похожий на аиста, кричит мне:
— Пан полковник, поехали. Хлопнем по маленькой.
В последний день войны этот красавец нарвался на мину и лишился ноги.
А вот сцепились в моей комнате бородач Юлиан Семёнов, только что изъездивший наши лагеря в поисках своего невинного отца, и тишайший, прилизанный Анатолий Кузнецов.
— Партия целиком может ошибаться! — рычит Юлиан, теребя бороду.
— Поклёп, — не соглашается будущий господин Анатоль, что бросит родину, жену, мать, беременную любовницу, — партия всегда права.
* * *
Комичный случай произошёл здесь с Мариэттой Шагинян. Ялтинская студия готовила впрок фильм о Мариэтте к какому-то её юбилею. Сценарист, вопреки совершенно несентиментальному характеру Шагинян, заставлял её кормить у озера лебедей и поглаживать пушистую кошку. Наконец, терпение у Мариэтты лопнуло. Она схватила кошку за хвост и подержала её вниз головой. Кошка от неожиданности поцарапала её. Я увидел Мариэтту, бегущую от озера к дому с воплем:
— Она бешеная!
Как-то Мариэтта Сергеевна спросила у меня строго:
— Борис Васильевич! Что вы там делаете в своём Ростове?
— А что такое, Мариэтта Сергеевна?
— Да ведь императрица Екатерина дала навечно указ нахичеванским армянам, а вы ликвидировали Нахичевань, вместо этого назвали этот район Пролетарским. Да какое же вы имели право?
Одно время Мариэтта Сергеевна хотела купить домик и поселиться в Ростове. Здесь когда-то жили её родители, здесь начала она в газете свой первый роман («Месс Менд»). Пыталась найти на Армянском кладбище могилу родителей: помнила, что на ней росли два ясеня. Но кроме пеньков, ничего не обнаружила. Дала срезы на анализ — нет, не ясени это. Так с переездом дело и застопорилось.
— И потом, там у вас опасно для жизни… Ведь Гарнакерьян живёт, — шутливо добавила она.
* * *
Я бы не сказал, что со Львом Кассилем у меня были дружеские отношения, но что они были дружественны — несомненно. Он зазывал меня в Москве к себе в гости, дарил книги, написал очень хорошую рецензию в «Культуре и жизни» на повесть «Лёшка» — «С маркой на вырост», в своем выступлении по радио нашёл добрые слова для «Алых погон». Квартира его в Москве — рядом с МХАТом. Лев Абрамович был женат на дочери знаменитого певца Собинова, драматической актрисе. Так я понимаю, жил в его квартире. Старомосковское сооружение, столовая, например, огромные комнаты без окон с абажуром «в три обхвата». За стол усаживалось человек по 10–15, и главенствовала здесь бабушка, половником разливавшая первое по глубоким тарелкам.
А какой бедлам творился в кабинете Льва Абрамовича! Горы даренных ему книг, царство рукописей. И десятки телефонных звонков. Из части их мне стало ясно, что Лев Абрамович изрядный модник: он собирался на футбольный матч в Лондон, по этому поводу заказал себе костюм и теперь уточнял портному: какие шлицы делать? О своей работе членом редколлегии «Литературной России» сказал мне: «Хотя бы иногда удаётся помочь хорошему человеку».