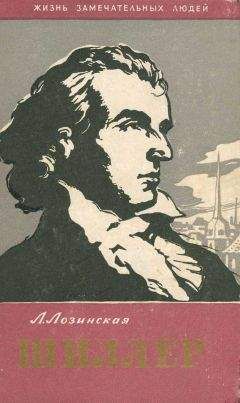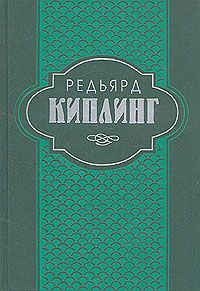— Если бы я был редактором любого журнала, я бы его напечатал.
Отзыв этот был для меня драгоценен. Я дал Ивану Дмитриевичу дневники — записи Суворовских дней. Прочитав их, Иван Дмитриевич сказал:
— Вам, кто варится в этом котле, надо написать большую повесть, я же ограничусь книжечкой очерков.
Мы с ним очень подружились. Однажды он рассказал мне, как в (нрзб.) влюбился в девушку (точёная фигурка, нежный облик и голосок). Но вот несколько дней её не было на работе. Он узнал её адрес и пошёл навестить её. Она лежала в жару, была укрыта немецкой шинелью. Эта шинель показалась ему столь ненавистной (недавно он получил извещение о гибели сына на фронте), что больше он уже никогда не встречался с девушкой.
— А знаете, как я написал рассказ «Солнечные часы»? Пошёл после спектакля провожать артистку Н. Распустил фазаний хвост, говорю: «Назовите любую тему, и наутро я принесу вам рассказ». Мы в это время подошли к каменной лестнице, спускающейся к морю.
— «Ну вот, — тоном шаловливой восхитительницы сказала актриса, — напишите об этих солнечных часах». Утром я принёс рассказ. Однажды мы с Иваном Дмитриевичем повстречались в Москве у Пушкинского сквера.
— У вас сейчас время есть? — спросил он у меня.
— Есть.
— Я хочу ввести вас в дом своих друзей Фраерманов.
У меня даже дух захватило от радости: «Боже мой, автор чудесной книги „Дикая собака Динго“ Рувим Фраерман… живой классик».
— Пойдёмте.
Иван Дмитриевич тоже любил «Собаку», но главная его любовь была редактор Фраерман — жена Рувима.
— Я привёз ей на днях свою новую повесть «Солнце всходит на востоке». Думал — шедевр. А она сказала — неудача, и доказала почему. Человек безудержного вкуса, самых точных оценок. Если вам это понадобится — смело приносите рукопись сюда.
Увы, я не последовал этому совету и, вероятно, поэтому выпустил немало посредственных вещей. И к себе и ко мне Иван Дмитриевич был безжалостен, если говорить о литературной работе. Как язвительны, уничтожительны оказались его пометки на полях моей книги о школьных учителях «Призвание». А встретив, опять-таки в Москве, сердито сказал:
— Ну, куда вы торопитесь? Мне надо торопиться, да я не разрешаю себе это. Вы присмотритесь, как психологически тонок Грин, как даёт пейзаж Паустовский. Мне пейзаж никак не давался. А вы работали в этом направлении?
Был Иван Дмитриевич очень больным человеком (у него не было одного лёгкого), но любил пофантазировать, как он станет путешествовать:
— Вот моряки Балтики прислали мне письмо, приглашают в гости на корабль. А что вы думаете — и пойду! Представляете, в открытом море?
Под конец жизни купил он себе «Волгу» и договорился со знакомым инженером Иваном Ивановичем, что тот час в день будет возить его по Таганрогу. Но вот нет почему-то Ивана Ивановича, а машина ждёт его у парадного Василенко (Чехова, 88). Тогда Иван Дмитриевич садится в машину на место рядом с местом водителя и сидит там часами. Бог знает, в каких далях за это время бывает он.
Местные таганрогские власти относились к Василенко плохо. Кто его знает почему? Это сейчас в Таганроге создана мемориальная квартира писателя, а тогда… стыдно сказать.
В день 70-летия Василенко секретарь обкома КПСС Михаил Кузьмич Фоменко приехал вручать писателю орден «Знак Почёта». В центральной библиотеке имени Чехова собрались человек двадцать. А ведь знали о предстоящем! И всё это в городе вузов, техникумов. На дверях библиотеки кнопкой прикреплено от руки неряшливо написанное объявление, мол, будет вручение.
М. К. Фоменко пришёл в ярость, из дальней комнаты позвонил на квартиру первому секретарю ГК:
— Чтоб через полчаса был сам и полон зал народа! Позор!
В этот же вечер на квартире, даря мне свою книгу, только что вышедшую в «Золотой серии», усмехнулся грустно:
— Всё же «заполнили зал».
Встречи с Корнеем ЧуковскимПо моим наблюдениям, Корней Иванович был склонен к скоморошеству, клоунаде. Мы с женой часто отдыхали в Переделкине. Дом наш был напротив дома Корнея Ивановича, и он любил вечерами приходить к нам в гости. То в обличье почётного доктора Оксфордского университета (длинная чёрная мантия с широкими рукавами, плоская четырёхугольная шапочка). Выступал важно, задрав нос-цибулю. А то приходил по узкой вымощенной кирпичом дорожке, держа в руках палочку. Он так ловко крутил ею между пальцев, что казалось, перед ним вертится колесо. При этом на ходу немного приседал, словно коленки у него подламывались, помахивал направо-налево видимым только ему одному цилиндром.
Однажды сказал мне и Людмиле:
— Я многостаночник. В моём рабочем кабинете стоит пять столов у пяти окон. За каждым из них — своё дерево. Утром сажусь я за первый стол. Чтобы писать книгу о Чехове, мне надо видеть перед глазами пихту… Через час-другой перехожу за второй стол. За окном виднеется ёлочка… Значит, будет сказка. И так до обеда… Вот сейчас занялся переводом Уолта Уитмена.
— А он какое дерево потребовал?
Любил Корней Иванович разыгрывать комедии. Как-то девочка лет 18-ти принесла ему письмо от своей матери («кажется, где-то когда-то я с ней служил в каком-то учреждении»). Мать умоляла Корнея Ивановича написать письмо кинорежиссёру Герасимову, чтобы тот прослушал её дочь.
— Гм… гм… — озабоченно сказал Корней Иванович, — а как надо писать отчество Сергея Аполлинарьевича? Через два «п» или через два «л»? Или всё по одному? — Затем он попросил меня: — Соберите на террасе дома коллег, кого сможете. — И продолжил комедию: — Что вы нам прочитаете? — спросил он у бледнеющей, краснеющей, почти теряющей сознание девочки.
— Если можно… стихи поэта Сергея Острового.
— Не знаю такого, — отмахнулся Корней Иванович, — а как насчёт басни?
— Могу и басню.
Замирая, умирая, прочитала она басню Михалкова.
Корней Иванович сказал: «Пройдитесь до опушки, а мы здесь посоветуемся».
Она пошла.
— Разве ж это басня? — вопросил нас Корней Иванович.
— Но при чём девочка? Она читала выразительно.
— Бесталанно, — сказал Корней Иванович, — бездарно.
— Будьте справедливы! — взмолился я.
— Мне не на чем писать, — ещё продолжал клоунничать Чуковский.
Я побежал в свою комнату и принёс Корнею Ивановичу лист чистой бумаги, ручку. Чуковский позвал претендентку. Что-то написав, протянул ей записку:
— Вы нас потрясли.
А я был потрясён его лукавством, комедианством.
— Привет маме, — вслед счастливой девушке крикнул Корней Иванович, а нам тихо сказал: — Ей-богу, не знаю — кто она?