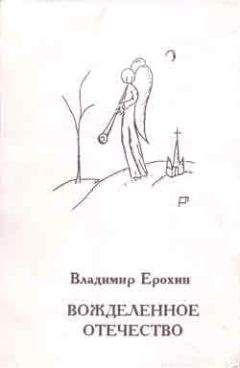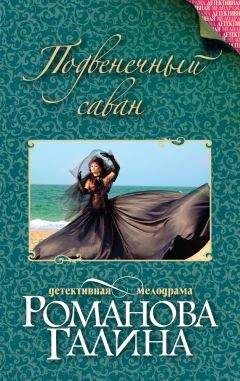И был второй пункт, вписанный рукою Ленина (скульптор об этом знал), который гласил: "Исключить Владимира Соловьёва".
А у Сергея Дмитриевича в мастерской стояла уже законченная мраморная композиция "Мыслители России": Лев Толстой, Федор Достоевский и... тот самый, запретный ныне Соловьёв.
Художник подошёл к морозному окну. На мостовую падал медленный, мохнатый, на птиц похожий снег.
Меркуров оглядел со всех сторон крамольный монумент и, вздохнув, решительно взялся за зубило и молоток.
Через час опального философа не узнал бы сам Дзержинский: гладко выбритые борода и усы, голова острижена "под ноль"...
Ваятель истово перекрестился.
Теперь завершающая фигура триптиха носила новое названье: Мысль.
До пятидесятых годов она простояла в палисаднике "дома Ростовых" на Поварской, а затем исчезла.
Анна Андреевна пришла к Горькому просить за мужа.
Тот внимательно выслушал и повёл показывать свою коллекцию текинских ковров, реквизированных у буржуазии.
Говорил о грядущем мире, о рождении нового человека. Цитировал Короленко: "Человек создан для счастья, как птица для полёта"; Чехова: "В человеке все должно быть прекрасно — и душа, и тело, и мысли, и одежда"; свой собственный кодекс гуманизма: "Если враг не сдаётся, его уничтожают".
Насчёт мужа ничего не обещал.
Человек в жёлтой куртке покупал и раздавал арбузы детям на улице. Он только что вышел из следственной тюрьмы. Это был Питирим Сорокин.
Он вошёл в свою комнату. Она была пуста. Сквозняк гонял по половицам обрывки бумаг. Ни книг, ни рукописей не было.
Он по памяти написал "Систему социологии" (два тома) и "Общедоступный учебник социологии" — и выпустил их в Ярославле в дни белого мятежа, который сам же организовал.
Профессор Петроградского университета Питирим Александрович Сорокин был личным секретарём премьер-министра Керенского.
Его дед был зырянским шаманом.
В ЧК застрелили его друга, тоже социолога, Петра Зепалова. Сорокин, сидевший в соседней камере, остался жив — непонятно, почему.
Учёный посвятил "Систему социологии" памяти Петра Зепалова.
Потом он двинулся на север — бунтовать Архангельск.
Пишу, как всегда, в электричке. Как всегда, тоскую по России. Ощущаю, как счастье, иллюзию ночного поезда: кажется, что движемся назад — стремительно, преодолевая время. Это чувство переполняет меня неизъяснимо — ни в чем я не нуждаюсь так, как в нем.
Люди живут насыщенной серятиной, — сказал отец Александр Мень.
Хочется не захлебнуться.
Иллюзии интересны тем, что они суть факты духовного мира, и этот способ бытия сообщает им конструктивный характер.
Утренний город окутан был туманом. Сквозь молочно-серую его пелену проступали острые, как морские скалы, крыши домов.
Что это со мной? Отчего так тяжело на душе, словно я всю ночь, не переставая, курил трубку?
Есенин вышел из гостиницы и завернул за угол. Его пугали безлюдные площади чужого белоглазого города, Он бежал сюда, чтобы забыться, бежал от самого себя, заранее зная, что это невозможно и мир обречён.
В таких состояниях нельзя садиться за руль, ходить по канату, разговаривать с незнакомыми, выступать публично.
В ушах звенел его же собственный истошный визг: — Айседора, ты дура!
И звон стоял посуды и зеркал в дорогом, приличном, коврами устланном отёле "Берлинер".
И шёпот Клюева подзуживал:
— Зря, Серёжа, Изадорку-то бросил — хорошая баба, богатая. Сапоги б мне справила...
— Ничего, Коля, — утешал Есенин, — будут тебе сапоги…
А Клюев сладким петушиным голоском, заглядывая в донья глаз да гладя Сереженьку по стылым пальцам, все убеждал:
— А поедем мы, Сереженька, во северны края, на бело озеро, на остров Валаам, ко обрядцам да скобцам. Поживём в скиту сосновом, в братской обители — тихой пристани. Стоит остров середь озера, а на нем — чудо-город-монастырь. А и сядем мы с Сереженькой за веслицы кленовы, в дубовой челнок, да и поплывём невемо куда. Хорошо!..
И завёл своё: о Божьей Матери Владимирской, о Пирогощей, о Спасе Ярое Око.
И глядел из угла, не мигая, угрюмый мужицкий Бог.
Надо честно прожить этот период и дойти до конца пропасти.
— Вот ты, Серёжа, хорошую вещь написал... — Клюев пальцы распростёр, припоминая: — "Чёрный человек, чёрный человек..."
— "Чёрный-чёрный — на кровать ко мне садится", — угрюмо промычал Есенин, подпаливая папиросу.
— "Чёрный человек спать не даёт мне всю ночь", — продолжал Клюев. — Великая вещь, — сказал он без всякого восторга, а скорее с хозяйственным оглядом. — Всемирного будет прославления вещь. Вот только я чего, Серёжа, думаю: ну, как её в Африке пожелают перевесть? Что будет? Ведь для них чёрный человек — не страшен: они сами чёрные. — (Клюев истово перекрестился: "Прости, Господи, душу мою грешную, ежели чего не так сказал. Помилуй грешного аза. Аминь.") — Как тогда?
— А ведь и вправду... — Есенин занедоумевал.
— Может, подходяще будет: "Белый человек"? — поинтересовался Клюев.
— Точно! — Есенин обрушил кулак с тяжёлым перстнем на стол. (Чашки вздрогнули. Половой покосился на столик с загулявшими поэтами.) — Точно: "Белый человек"! Так и надо переводить.
— И актуальность момента появится, — поощрил Клюев. — Как там у тебя в конце? "Я взбешён, разъярён..."
— "И летит моя трость... "
— "Прямо к морде его..."
— В переносицу !
— Представляешь, что скажут негры Африки? Правильно, скажут, режет товарищ Есенин: надо бить этих колонизаторов!
Дожить до смерти. Я не знаю ни одного человека, которому бы это не удалось.
Утром Клюев, надев на шею дарёные сапоги, пешком ушёл в Олонетчину.
Что-то хрустело под ногами. И невозможно было понять, лёд это или битое стекло.
И был один образ, при воспоминании о котором у Кати леденело сердце.
Высокий мужчина в сатиновой рубахе, плисовых штанах и красных сапогах появился в дверях.
Это был Григорий Распутин.
Всю неделю, не переставая, лил дождь.
Вот уже третье утро подряд Маяковский гулял с собакой под дождём.
Собаку оставили друзья, а сами уехали в Париж на целый месяц.
Это была добрая, тихая сука — ирландский сеттер.