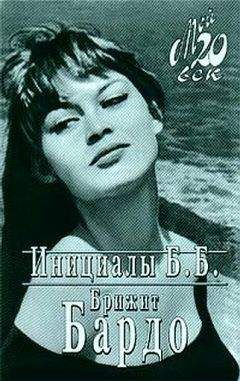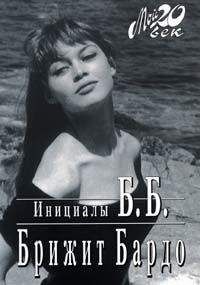IV
Чуть позже друг моих родителей Кристьян Фуа, ведущий танцовщик балета «Шанз-Элизе», просил маму отпустить меня с их труппой на гастроли в Фужер и Ренн. Мама отпустила. Выступить на сцене мне, быть может, пойдет на пользу!
Я в ту пору оставила балетную школу и училась у Бориса Князева. Итак, отправилась я на месяц в Ренн, сданная Кристьяну Фуа. Женщинами Кристьян не интересовался, поэтому я показалась ему прекрасной спутницей!
Почти вся труппа жила на квартире. Хозяйка по специальности — врач-онколог. Мне места не хватило, и Кристьян нашел для меня гостиницу, небольшую и недорогую, ибо зарабатывала я чепуху. Одна в своем углу, не слишком я радовалась началу независимой жизни.
Столовались мы у хозяйки, но я потеряла аппетит, заглянув в хозяйскую лабораторию, где умирала дюжина хорошеньких кроликов и множество больных раком мышей. Утром и днем, а иногда и вечером мы репетировали. Я была страшно рада танцевать в балетной труппе, может, не лучшей, но по крайней мере профессиональной. Нам предстояло выступать в реннской опере, а я так гордилась, словно в нью-йоркской. Примерка костюмов стала наслаждением. За исключением экзаменов в балетной школе, когда я красовалась в классической белой пачке, я всегда танцевала в купальнике и рабочем трико.
Прима-балерина, Сильвия Бордонн, была великґа — и в длину, и в ширину. Однажды на репетиции она споткнулась и рукой, гибкой, но сильной, случайно ударила Кристьяна так, что он на четверть часа потерял сознание. Помня это, я всегда старалась танцевать на некоторой дистанции от нее.
В первом балете я была негритенком, прыгавшим и вертевшимся. Зрелище уморительное. Во втором — «Детских сценах» Шумана — выступала одна, в кринолине и локонах. Последним шел балет Прокофьева, где мы — конькобежки в длинных юбках, круглых шапочках и S-образных муфтах, голубых, розовых, желтых, бледно-зеленых.
Было очень красиво.
Подумали обо всем, кроме одного.
На первом спектакле в Фужере получила я горький опыт. Негритенок в первом балете — прелесть, я была черней ночи в ваксе, черном парике и обычном черном купальнике. Но между негритенком и «Детскими сценами» оказалось всего десять минут аплодисментов. Мама приехала на спектакль и теперь стаскивала с меня трико и парик, а я, сунув голову в раковину, терла лицо туалетным мылом, торопясь смыть чертову ваксу!
Получилась я красная, как помидор, с черными несмытыми полосами. Парик успел сплюснуть мне локоны, а пот еще и склеил — прически не стало. Некогда было даже огорчиться. Немного пудры на пунцовые щеки и нос, мама расческой разлепляет букли и прикрепляет хвостик…
На сцену, быстро!
Кошмар!
Юбка не застегнута, трусы съезжают, книжечка, которую я якобы читаю в начале сцены, потерялась. Я затянула на себе поясом трусы и юбку: держатся, но дышать стало нельзя! Вдобавок, я расшиблась на лестнице, потому что идиотский театр был устроен так, что попасть со двора в сад можно было только под сценой.
Вышли у меня не детские сцены, а стриптиз. Сперва я потеряла заколку, и волосы рассыпались по лицу. Я ослепла, но, по крайней мере, не были видны черные полосы на щеках! Потом потихоньку стала съезжать юбка. Тогда я бросила книжечку и подхватила юбку обеими руками, но свои скромные штанишки не удержала, они спустились и сковали ноги.
Это надо было видеть!
Умирая от смеха и стыда, я опять грохнулась на все той же проклятой лестнице по дороге обратно в крохотную уборную. Мама и Кристьян хохотали до слез, будто на экзамене в цирковом училище.
А для танцев на катке сцена оказалась так мала, а ступни Сильвии Бордонн так велики, что, когда Кристьян вращал ее, держа за руку, она в арабеске, вытянув назад под прямым углом ногу, попала стопой в занавес, потихоньку завернулась в него, как в ветчинный рулет, и на глазах у публики чудесным образом исчезла.
У тамошних зрителей, наверное, челюсти отвалились от изумления, а мы, артисты, чуть не умерли от смеха! Кристьяна и всегда было хлебом не корми, дай посмеяться, а тут он хохотал просто до истерики.
Незабываемый вечер!
* * *
Вернувшись в Париж, танцы я сочла не слишком надежным делом. А тут мне предложили сняться для «Жарден де мод жюньор». Была зима 1949 года. Мамина подруга, мадам де ля Виллюше, заверила маму, что это не «за деньги», что журналу я нужна как «девушка из общества», а не как манекенщица.
Я снялась. Мама ходила со мной.
Дескать, эти фотографы — известное дело…
Я была горда: хорошенькая, без очков и зубной проволочки. Фотографии удались и пошли в журнал. Я до сих пор, как талисман, берегу этот номер! Тогда же Элен Лазарефф увидела в нем мои фото и, опять через мамину подругу, предложила мне сняться на обложку майского номера «ELLE».
Дома — крик. Никаких «девушек на обложку» в нашей семье! Ах, ну если не за деньги — надо подумать. Наконец — ладно, иди! Дрожа, стесняясь, комплексуя, прячась за мамину спину, я вхожу в фотостудию. Толпа. У меня душа в пятки.
Мама всех знала. А я вот-вот упаду в обморок. Меня разглядывали, обсуждали мои зубы, волосы, ногти.
Нет, косметикой не пользуюсь, мне всего 14 лет!
Нет, лифчика не ношу, мне всего 14 лет!
Нет, позировать не умею, мне всего 14 лет!
Короче, я невзрачна, зажата и только в профиль еще туда-сюда: нос — ничего, остальное не видно.
Однако ровно через год, день в день, я снова снялась для «ELLE». Спецвыпуск от 8 мая 1950 года был посвящен моде «Дочки-матери». Я фигурировала во всех ракурсах и платьях, и утренних, и вечерних. И вот я непременный атрибут журнала, и судьба моя действует помимо моей воли: Марк Аллегре увидел фотографии и попросил о встрече.
И снова семейный совет в столовой: Бум — председательствует, вокруг остальные. Должна малышка или нет встретиться с Аллегре? Опять крик, Опять «все актрисы проститутки», «нам в семье таких не надо» и т. д. и т. п.
Вдруг Бум стукнул кулаком по столу и заявляет: «Если малышке суждено стать шлюхой, она ею станет, в кино или без. А не суждено — так и кино тут ничего не сделает! Дадим ей шанс, мы не вправе решать за нее».
Спасибо, дед, что поверил в меня.
Спасибо, что дал мне шанс.
И машина заработала.
Я отправилась к Аллегре. Принял меня Роже Вадим, его помощник. Мама была со мной. Смотрела она спокойно и с любопытством. А я опять дрожала и стеснялась: хочется и колется. Аллегре говорил маме, что собирается сделать со мной. Вадим ничего не говорил, но смотрел на меня хищно, и пугал, и притягивал, и я чувствовала, что сама не своя.
Вечером дома за ужином мама тараторила без умолку, рассыпалась в похвалах Аллегре. Он-де и воспитан, и обаятелен, и не похож на этих беспардонных киношников, в общем, человек нашего круга, и так далее… А я, уткнувшись в тарелку, сидела как истукан и вспоминала глаза Вадима…