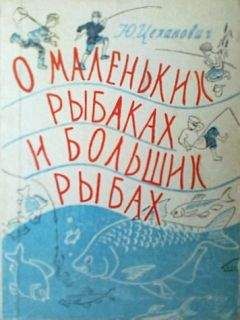До войны Париж в искусстве был той же Антантой. Как сейчас министерства Германии, Польши, Румынии и целого десятка стран подчиняются дирижерству Пуанкаре, так тогда, даже больше, художественные школы, течения возникали, жили и умирали по велению художественного Парижа.
Париж приказывал:
«Расширить экспрессионизм! Ввести пуантиллизм!» И сейчас же начинали писать в России только красочными точками.
Париж выдвигал:
«Считать Пикассо патриархом кубизма!» И русские Щукины лезли вон из кожи и из денег, чтобы приобрести самого большого, самого невероятного Пикассо.
Париж прекращал:
«Футуризм умер!» И сразу российская критика начинала служить панихиды, чтоб завтра выдвинуть самоновейшее парижское «да-да», так и называлось: парижская мода.
Критики газет и журналов (как всегда, художники, отчаявшиеся выдвинуться в живописи) были просто ушиблены Парижем.
Революция, изобретения художников России были приговорены заочно к смерти: в Париже это давно и лучше.
Вячеслав Иванов так и писал о выставке первых русских импрессионистов — «Венок» (1907 г.) Д. Бурлюка:
Новаторы до Вержболова!
Что ново здесь, то там не ново.
Дело доходило до живописных скандалов.
В 1913 году в Москве открылась совместная выставка французских и русских художников. Известный критик «Утра России» Ал. Койранский в большой статье о выставке изругал русских художников жалкими подражателями. В противовес критик выхвалял один натюрморт Пикассо. По напечатании статьи выяснилось, что служитель случайно перепутал номера: выхваляемая картина была кисти В. Савинкова — начинающего ученичка. Положение было тем юмористичнее, что на натюрморте нарисованы были сельди и настоящая великорусская краюха черного хлеба, совершенно немыслимая у Пикассо. Это был единственный случай возвеличения русских «подражателей». Это было единственное низведение знаменитого Пабло в «жалкие». Было до того конфузно, что ни одна газета не поместила опровержения. Даже при упоминании об этом «недоразумении» на живописных диспутах Бубнового Валета — подымался всеми приближенными невообразимый шум, не дающий говорить.
Достаточно было раструбить по Парижу славу художественного предприятия — и беспрекословный успех в Америке обеспечен.
Успех — доллары.
Еще и сейчас Парижу верят.
Разрекламированные Парижем, даже провалившиеся в нем, напр. театр «Летучей мыши» Балиева, выгребают ведрами доллары из янки.
Но эта вера стала колебаться.
С тревогой учитывает Париж интерес Америки к таинственной, неведомой культуре РСФСР.
Выставка русской живописи едет из Берлина по Америке и Европе. Камерный театр грозит показать Парижу неведомые декоративные установки, идеи российских конструктивистов приобретают последователей среди первых рядов деятелей мирового искусства.
На месте, в РСФСР, в самой работе, не учтешь собственного роста.
Восемь лет Париж шел без нас. Мы шли без Парижа.
Я въезжал в Париж с трепетом. Смотрел с учащейся добросовестностью. С внимательностью конкурента. А что, если мы опять окажемся только Чухломою?
ЖИВОПИСЬ
Внешность (то, что вульгарные критики называют формой) всегда преобладала во французском искусстве.
В жизни это устремило изобретательность парижан в костюм, дало так называемый «парижский шик».
В искусстве это дало перевес живописи над всеми другими искусствами — самое видное, самое нарядное искусство.
Живопись и сейчас самое распространенное и самое влиятельное искусство Франции.
В проектах меблировки квартир, выставленных в Салоне, видное место занимает картина.
Кафе, какая-нибудь Ротонда сплошь увешана картинами.
Рыбный ресторан — почему-то весь в пейзажах Пикабиа.
Каждый шаг — магазин-выставка.
Огромные домища — соты-ателье.
Франция дала тысячи известнейших имен в живописи.
На каждого с именем приходится тысяча, имеющих только фамилию. На каждого с фамилией приходятся тысячи — ни имя, ни фамилия которых никого не интересуют, кроме консьержки.
Нужно заткнуть уши от жужжания десятка друг друга уничтожающих теорий, нужно иметь точное знакомство с предыдущей живописью, чтобы получить цельное впечатление, чтобы не попасть во власть картинок — бактерий какой-нибудь не имеющей ни малейшего влияния художественной школы.
Беру довоенную схему: предводитель кубизм, кубизм атакуется кучкой красочников «симультанистов», в стороне нейтралитет кучки беспартийных «диких», и со всех сторон океаном полотнища бесчисленных академистов и салонщиков, а сбоку — бросающийся под ноги всем какой-нибудь «последний крик».
Вооруженный этой схемой, перехожу от течения к течению, от выставки к выставке, от полотна к полотну. Думаю — эта схема только путеводитель. Надо раскрыть живописное лицо сегодняшнего Парижа. Делаю отчаянные вылазки из этой схемы. Выискиваю какое-нибудь живописное открытие. Жду постановки какой-нибудь новой живописной задачи. Заглядываю в уголки картин — ищу хотя бы новое имя. Напрасно.
Все на своих местах.
Только усовершенствование манеры, реже мастерства. И то у многих художников отступление, упадок.
По-прежнему центр — кубизм. По-прежнему Пикассо — главнокомандующий кубистической армией.
По-прежнему грубость испанца Пикассо «облагораживает» наиприятнейший зеленоватый Брак.
По-прежнему теоретизируют Меценже и Глез.
По-прежнему старается Леже вернуть кубизм к его главной задаче — объему.
По-прежнему непримиримо воюет с кубистами Делонэ.
По-прежнему «дикие» Дерен, Матисс делают картину за картиной.
По-прежнему при всем при этом имеется последний крик. Сейчас эти обязанности несет всеотрицающее и всеутверждающее «да-да».
И по-прежнему… все заказы буржуа выполняются бесчисленными Бланшами. Восемь лет какой-то деятельнейшей летаргии.
Это видно ясно каждому свежеприехавшему.
Это чувствуется и сидящими в живописи.
С какой ревностью, с какими интересами, с какой жадностью расспрашивают о стремлениях, о возможностях России.
Разумеется, не о дохлой России Сомовых, не об окончательно скомпрометировавшей себя культуре моментально за границей переходящих к Гиппиусам Малявиных, а об октябрьской, о РСФСР.
Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства — конструктивизм. Даже удивляешься, что это слово есть во французском лексиконе.