Обеспокоились и каталонские власти. Глава каталонского правительства Жорди Пухоль навестил больного гения и, вероятно, воззвал к его патриотическим чувствам с тем, чтобы из его огромного творческого наследия хоть что-то осталось на малой родине, а то ведь все уплывет в Мадрид.
Посетил в начале декабря художника и король, находившийся в то время в Барселоне. К приезду Хуана Карлоса Дали подготовил для подарка прекрасно изданные монархические свои поэмы в честь Его и Ее Величеств. Он был очень возбужден и, как всегда, вел непрекращающийся монолог. Король ничего не понял из этой речи. Присутствовавший на встрече с королем Антонио Пичот, понимавший бессвязное бормотание старика, «перевел» монарху, что художник надеется на свое скорое выздоровление и намерен вновь трудиться во славу Испании.
У Дали была привычка хватать собеседников за руки, не избежал его хватки и король.
Похоже, визит короля благотворно повлиял на монархиста Дали — к Рождеству он был уже в Башне Галатеи.
Ему было там очень тяжко, особенно по ночам, когда он не мог слушать радио или смотреть телевизор. Темные предчувствия туманили мозг, и вместе с ними стала являться Гала. Она садилась к нему на постель, гладила по голове и говорила на мягком бескостном русском языке. Он пытался ее понять, кричал, чтобы она говорила по-французски, но она упрямо бормотала славянские непонятные слова, и он отмахивался от нее, как от наваждения, прекрасно понимая в минуты ясности, что это всего лишь бред, галлюцинация. Звонил, просил служанку поставить пластинку, но когда музыка умолкала, сменяясь скрежетом иглы и отключающим щелчком, Гала являлась вновь и что-то опять говорила. Он вслушивался в мелодию ее голоса, пытался что-то поймать, уловить, тянулся к ней, хотел обнять, но руки уходили в пустоту, красное платье от Диора становилось проницаемой «обманкой», какие он всю жизнь «ткал» на своих холстах. В ярости он стучал костяшками пальцев по спинке кровати, ему становилось больно, и в свете яркой лампы видение исчезало, и он забывался на несколько минут. Потом вновь в его больном и уставшем, но легко возбудимом мозгу возникали образы и звуки, и старик начинал слышать тяжелое уханье прибоя в Порт-Льигате, когда поздней осенью поднимались свирепые северные ветры.
Он шел козьими тропами по скалам мыса Креус, вглядывался в их меняющиеся зоологические очертания — верблюд обращался в петуха, петух — в орлицу, орлица — в львиный зев, а львиный зев — в гробницу… И гробница перед его внутренним взором была неумолимо долго, а он, как прикованный, стоял на скалах и не мог и не хотел двигаться, смотрел на соединявшую море и небо линию горизонта и угловатые скалы и о чем-то напряженно думал, о чем-то настойчиво вспоминал, теребил память в надежде, что что-то прояснится, проявится и подскажет ему верное слово, именно слово, от которого он проснется молодым и здоровым, обнимет сестру, улыбнется ей, пройдет по улицам родного Фигераса, зайдет в кафе и встретит Карме Роже, белокурую девочку, которая его любила, а он делал вид, что она ему нравится, а нравилась ему не она, а Дуллита…
Кто же такая Дуллита? Он никак не мог вспомнить, кто такая Дуллита. Да, конечно, он приглашал ее на чердак родительского дома, где он устроил свою первую мастерскую и где мольберт стоял прямо в бетонной ванне. А как было славно взбалтывать ногами теплую стоячую воду и слушать визг ребятишек внизу, на улице. И как тогда хотелось спуститься к ним, побегать, покричать, пощипать девчонок… Но я не выходил к ним. Как глупо. Я мечтал стать королем. И настоящий испанский король недавно приходил ко мне в больницу, и я пожимал ему руки…
Но недавние воспоминания, словно смерчем трамонтаны, выносились неожиданно приходившей Галой и без конца что-то говорившей. Он не знал, что с этим наваждением делать, впадал в отчаяние, молился, и это помогало, — на полчаса к нему приходил сон, и в этом старческом сне, слава Богу, ничего не было, только темная пустота.
Или приходила розовая мгла, где маячили яички без сковороды, и он словно вновь оказывался в материнской утробе — теплой, липкой и золотисто-желтой; сновидец ложился на бок, свертывался калачиком, уплывая в блаженство, — он всегда любил липкое, текучее, желеобразное, мягкое, податливое, способное без усилий следовать за его прихотливой фантазией; припоминал, что с детства любил проливать на рубашку кофе с молоком, чтобы ощутить его липкую теплоту, когда одежда приклеивалась к телу…
Но липкое и теплое обращалось в сырое и холодное и дурно пахло, и он звал сестру, а когда она переодевала его, сквернословил и плевался.
Когда терпеливая сестра уходила с простыней в руках, старик вновь погружался в воспоминания, и его постель под утро окружали те, кого бы он хотел видеть рядом с собой и говорить. Чаще всего это был Лорка. Вот уже полвека поэт идет с ним рука об руку, напоминая о себе внезапно приходящими в голову стихами, рождая неотвязчивые образы.
Улыбка кривила сухие губы отшельника Дали, если припоминалось, что андалузец Лорка не умел плавать и очень боялся утонуть, когда они однажды вместе с Аной Марией отправились на мыс Креус, чтобы показать гостю живописную Туделанскую долину. На веслах в лодке сидел садовник Энрике, самый ленивый человек на свете, жаловался на свою жену, которую иначе как змеей и не называл, и говорил, что когда после смерти окажется в аду, он свое наверстает, развлекаясь с танцовщицами. А когда Лорка спросил его, почему он думает, что танцовщицы тоже попадут в ад, выпучил глаза и спросил: «А где им, блядям, быть, по-вашему?» Федерико хохотал.
Тогда мы расположились у скалы, похожей на орлицу, глядели на кобальтовое море и сверкавшие под солнцем капельки слюды в мягких очертаниях скал и ели жаркое из кролика. Лорка и тут устроил свое обычное представление: упал на песок и закрыл глаза, изображая покойника. Потом с удовольствием ел крольчатину, присаливая ее вместе с солью прилипшими к пальцам песчинками и говорил, что такая приправа с хрустом на зубах ему по вкусу.
На обратном пути Энрике рассказывал свои обычные байки, одна из них очень понравилась Лорке. Речь там шла об обиженном родителями мальчишке, который встретил такого же парнишку, тоже побитого родителями. Когда тот стал жаловаться на обиды, другой сказал: «У всякого свое море, и сколько ни дели — не поделится».
Да, море не делится… И на сверкающей под солнцем скале снова появляется Гала в белом платье и ест черный виноград. «Убей меня! — говорит она. — Сможешь? Сможешь?» И он поцеловал ее, и мягкие теплые податливые губы с оставшимся вкусом винограда и гибкое, как лоза, тело сплелись с ним, соединились в одно неразрывное целое…
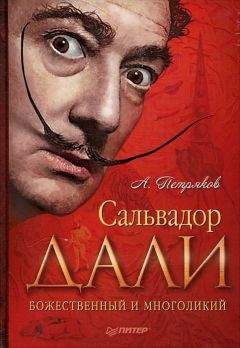




![Филип Фармер - Властелин тигр [= Владыка тигр, Бог-тигр, Властитель тигр, Лорд Тигр]](https://cdn.my-library.info/books/21569/21569.jpg)