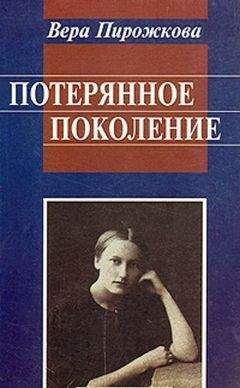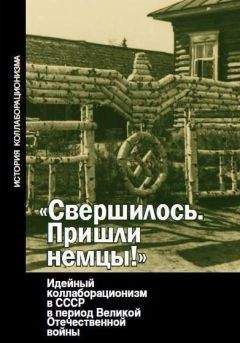Сначала я не хотела прочно устраиваться на работу — у меня все еще были политические мечтания в голове, и когда начальник лагеря спросил меня, где я собираюсь работать, я ответила, что пока не знаю. На это он надменно заявил, что я буду работать там, куда он меня пошлет. Я тотчас же вспылила, возражая — буду работать там, где договорюсь с начальством фабрики. Он отступил, заметив, что берет нас в свой лагерь, как гостей.
Тогда наступила моя очередь быть надменной — я сказала, что мне это безразлично. А между тем, у него и в самом деле имелось право посылать жителей лагеря на работы, но психология чиновников тоталитарных режимов везде одинакова: если человек отвечает смело, они отступают, думая, что где-то наверху есть «рука»; тем более, что мне удалось устроить поездку в Берлин из Вольфена, что было проще, поскольку расстояние было не столь велико. Но в Берлине я еще раз убедилась, что политически ничего не шевелится и, возвратившись в Вольфен, согласилась работать как бы ассистенткой А. А. Геберга. Не знаю, над чем он работал, но я по его заданию делала разные математические выкладки вроде решений дифференциальных уравнений, которые он включал и свои разработки.
Однако вскоре немецкий начальник отвлек меня, дав много фотографий с какими-то белыми различно расположенными точками, по которым следовало делать диаграммы. Что это такое было и зачем оно нужно, я не имела понятия, да и до сих пор не имею. Жизнь текла равномерно, Вольфен не бомбили. Мы пребывали как бы в тихой заводи, в то время как вокруг гремели битвы.
Как я уже упоминала, мы с отцом обедали в заводской столовой. Сначала мы отправлялись туда втроем, — А.А., мой отец и я, — но потом вдруг наверху спохватились: иностранцы не должны обедать вместе с немцами, должна быть проведена сегрегация. Нам приказали идти в ту же столовую, но не в полдень, а на полчаса раньше; А.А., как немец, шел обедать в двенадцать. Я расспрашивала его потом, чем это их кормили, и убеждалась, что и для нас, и для них обед был одинаков. Но как-то ведь надо было выделить «высшую расу»! Потом в нашу комнату посадили русскую чертежницу и она как-то пожаловалась, что вот, даже туалет сегрегирован. Я посмотрела на нее с удивлением: немецкая служанка, которую я спросила в первый день, показала мне дамский туалет — немецкий, конечно, — и я даже не знала, что для иностранцев существует другой. Интеллигентные немцы стеснялись этой навязанной им сегрегации и никогда не инициировали ее проведения. Еще не очень старый, но грузный и малоподвижный профессор Геберг звонил в канцелярию, если ему бывали нужны карандаш или линейка, и девушки из канцелярии приносили ему необходимое. Недолго раздумывая, я тоже сняла телефонную трубку и потребовала что-то из письменных принадлежностей. И мне их принесли, хотя в свои двадцать три года я вполне могла сама спуститься этажом ниже и взять все необходимое. Ко мне прониклись таким уважением, что даже позвонили однажды из канцелярии и сообщили, что на завод приезжает театральная труппа — не хотела бы я получить бесплатный билет? Я еще расспрашивала, хороши ли артисты, потом согласилась взять билет, и мне его принесли. И все же и мне пришлось раз пережить «сегрегационное» унижение. При заводе были ванны, которыми служащие могли пользоваться бесплатно. Я узнала, где находится дамское отделение, и ходила туда брать ванну. Иногда там бывала небольшая очередь. В ней я разговаривала с немецкими служащими, я говорила тогда по-немецки хотя и свободно, но все же не без ошибок и, конечно, с акцентом. Несмотря на это, все служащие бывали со мной любезны. Но однажды мимо пробегала уборщица и, услыхав мою речь, вдруг закричала, что «грязные иностранцы» не смеют ходить в эти ванны, а вот на другой стороне для иностранцев есть ванны. Те же немки, которые перед тем относились ко мне с пониманием, не стали заступаться за меня. Таким неприятным образом мне стало известно о «ванной» сегрегации, о которой я прежде действительно ничего не знала. Эти отдельные ванны для иностранцев, как и обед в столовой, ничем не отличались от немецких. Там даже не было очереди, и если б я знала про это раньше, то ходила бы туда. Противна была только грубость уборщицы. Много позже мне приходилось читать, что за сегрегацию в южных штатах США особенно рьяно держались низшие слои общества: не имея общественного положения, они гордились только цветом своей кожи, и при ликвидации сегрегации по расовому признаку потеряли бы единственный повод считать себя выше других. То же самое было и здесь: служащие и научные сотрудники и так уже имели известное общественное положение, а уборщица могла гордиться только своей принадлежностью к «высшей расе». Я не виню тех немок, что не заступились за меня, ведь приказ о сегрегации исходил свыше. Доносы были очень распространены, а доносчиками в немалой степени были как раз люди низших классов — дворники, уборщицы и так далее, — а мне все равно всерьез ничего не грозило.
Тем временем нашу семью перевели в кирпичные бараки и мы получили небольшую, но отдельную комнатку. Это были бараки для иностранной интеллигенции. Рядом с нами, в соседней комнате, жили две сестры. Одна, значительно старше меня, была специалистом по химии и работала в химической лаборатории. Она-то и получила эту комнату. Вторая была намного моложе ее и работала на склейке коробок для фильмов, где работало также большинство русских, живших в общих бараках. Это были большей частью артисты и артистки варьете и всяких других увеселений, которые, оставшись на оккупированной территории, выступали и перед немецкими солдатами — сотрудники так называемой «Винеты», а потом бежали, опасаясь оставаться при приближении советских армий.
Хотя по возрасту я больше подходила младшей из сестер, но интереснее мне было со старшей, с которой я и сдружилась. Она рассказывала, что приехала в Германию уже довольно давно и добровольно, когда стали (кажется, в 1942 году) набирать специалистов. Поехала она из любопытства — посмотреть другую страну, и попала поначалу в ужасные условия. Их поместили в общие бараки, кормили преимущественно водянистой вареной брюквой и водили гулять под конвоем, как преступников. Но по мере того, как положение на фронте для немецкой армии становилось все хуже, положение русских специалистов и рабочих улучшалось. Сначала отменили прогулки под конвоем и стали лучше кормить, потом выдали немецкие продуктовые карточки, и они таким образом получили возможность самостоятельно себя обеспечивать, и, наконец, перевели в этот хороший барак, дав отдельную комнату. Мы попали в Германию, когда все эти метаморфозы уже совершились, так что нас уже никто не запирал, мы сразу получили немецкие карточки и не должны были носить значок «Ost». Впрочем, и те, кто его носили, имели уже немецкие карточки и получали деньги за свою работу. Однажды я зашла в булочную, чтобы купить пирожное. Для этого надо было отдать маленький талончик хлеба, жиров и сахара. На стене висело объявление: «Евреям и полякам пирожные не продаются». Мне стало неприятно, и я вспомнила рассказ отца о дискриминации поляков. Как раз в этот момент вошла элегантно одетая (холя и в явно обношенную одежду) женщина со значком «Р» на груди. Полька на довольно хорошем немецком языке спросила пирожное и протянула свою продовольственную карточку. Но продавщица ее отклонила, указав на надпись. И тут же вошла закутанная в платок простая русская или украинка со знаком «Ost» ткнула пальцем в пирожное и протянула продавщице продуктовую карточку. Та молча ее взяла, вырезала талоны, завернула просимое пирожное и взяла деньги. Полька наблюдала все это молча. Можно вообразить, каково было ее оскорбление — ей пирожного не продали, а какому-то «быдлу», слова по-немецки не умеющему сказать, продают!