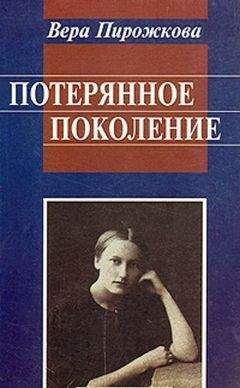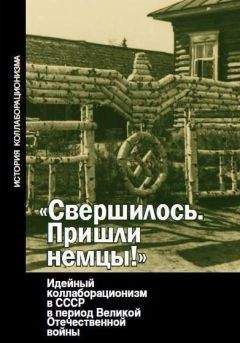Соседка-химичка рассказала мне, что у нее есть жених-немец, но для того, чтобы он получил разрешение на ней жениться, она должна была сходить в так называемую расовую службу, где определили ее расовое достоинство. Она была шатенкой с карими глазами, но на это не обратили особого внимания, главным было измерение формы головы. Лицо у нее было продолговатое, даже значительно, что портило ее внешность. Но «специалисты по расе» нашли, что как раз это хорошо. Ее отнесли к разряду длинноголовых, а не круглоголовых, то есть к высшей, по мнению этих специалистов, расе. Разрешение на брак было выдано.
Уже после войны я читала «Миф двадцатого столетия» Альфреда Розенберга и удивлялась его яростным нападкам на «круглоголовую средиземноморскую расу», испортившую «северную расу» Европы. Способствовала такой смеси католическая церковь, провозгласившая равенство всех людей в их достоинстве перед Богом. Главным врагом Розенберга были не евреи и, тем более, не русские, а католическая церковь. Позже мне как-то пришлось познакомиться с человеком, немцем, ставшим верующим католиком в результате чтения книги Розенберга. Его поразили истерически яростные нападки Розенберга на католическую церковь и он решил поближе с ней познакомиться. Пути Божии неисповедимы — книга Розенберга оказалась для этого человека «доказательством от противного».
Вольфен не бомбардировали, но у Гебергов была квартира в Дессау, и однажды днем американцы его бомбили. А.А. был внутренне очень взволнован, хотя внешне продолжал оставаться дисциплинированным: ведь там была его жена Зинаида Григорьевна. Я с ней тогда еще не была знакома, но, конечно, сочувствовала тревоге А.А. Вдруг раздался телефонный звонок и А.А. взял трубку. На его лице отразилось огромное облегчение: звонила 3.Г., ее, оказывается, не было дома, она ходила что-то покупать, тогда как дом, где жили Геберги, был разбит бомбами и их скромное беженское имущество погибло.
Политические новости до Вольфена доходили плохо. Немецкие газеты были полны обычной пропаганды. Причем, ради справедливости следует отметить, что передовые Геббельса в еженедельной газете «Das Reich» были блестящими. Конечно, это была лживая пропаганда, но сделана она была чрезвычайно искусно, стиль его статей был в высшей степени изящным, не сравнимым с суконным языком советских вождей. О русских делах слышно ничего не было. Я не знала сначала и о событиях в Праге — возрождении Власовского движения, о Пражском манифесте. Не знала я и то, что с немецкой стороны союз с Власовым возглавил Гиммлер, этого я не узнала и когда до меня дошли сообщения о делах в Праге. Приехав в Вольфен, я сообщила свой адрес профессору Иванову. Он неожиданно начал бомбардировать меня письмами, сообщая сногсшибательные новости о Власовском движении, о Пражском манифесте и о том, что он будет сотрудничать с этим движением, что ему даже предложили ответственный пост руководителя идеологического центра движения. Что это такое и какая идеология была у Власовского движения, не знал никто. Но можно было постараться выработать хоть какие-нибудь принципы, на которые бы это движение опиралось. В Пражском манифесте были записаны основные пункты, но я его тогда еще не читала. Профессор Иванов приглашал меня тоже сотрудничать. Сначала я к этому отнеслась скептически. Мои возражения были, что все это уже поздно, Германия проигрывает — что можно сделать еще в союзе с ней. У меня за прошедшее время, когда я спокойно обдумывала прошлое, возникло много сомнений относительно движения. Не помню, что отвечал мне Иванов на первый аргумент. В письмах он не мог быть откровенным, их могла открывать цензура. Я ведь тоже не писала откровенно, только намеками. Из наших личных с ним разговоров можно было понять, что он надеется на западных союзников. На второе же он возражал мне, что «если все честные люди отойдут в сторону, тогда действительно движением завладеют авантюристы и искатели прибыли». При этом он не скупился на комплименты мне, превозносил мой политический ум, прозорливость и, конечно, порядочность. Мне жаль, что ни одного из этих писем не сохранилось. В свете дальнейших событий было бы интересно сейчас опубликовать хоть одно такое письмо. Мне было всего 23 года, похвалы со стороны больше чем вдвое старшего профессора не могли остаться без всякого воздействия. Иванов меня, в конце концов, убедил.
Получить разрешение оставить работу было не так легко, но наше начальство, доктора физики и химии, интеллигентные люди и отнюдь не нацисты, устроили это для меня. Иванов, уже перебравшийся в Берлин, прислал мне приглашение, послужившее основой для разрешения мне оставить работу, а также купить билет на поезд в Берлин. К сожалению, я тогда по молодости лет и политическому увлечению не думала о том, какое горе причиняю своим родителям. Берлин подвергался ковровым и частым бомбардировкам. Днем бомбили американцы, а ночью — англичане. Из спокойного, не подвергавшегося бомбардировкам Вольфена я стремилась в самое пекло войны. Но родители меня не отговаривали. Задним числом я хочу воздать должное их мужеству и любви ко мне. Они знали, что меня вряд ли можно остановить, если уж я что-нибудь решила. В один декабрьский день 1944 года (точной даты я уже не помню) я отправилась в путь. Выехала я утром, а всего езды на поезде до Берлина было два часа. Я ведь должна была приехать до пяти часов вечера, чтобы застать профессора Иванова еще на службе. О дне моего приезда я ему сообщила и была уверена, что он позаботился о каком-либо пристанище для меня в Берлине, хотя бы на первое время. Ведь он приглашал меня на должность своего научного секретаря. Поездка, однако, заняла много времени. Не знаю отчего, но когда над страной пролетали вражеские бомбардировщики, поезда останавливались. А летели американские эскадрильи почти непрерывно, и наш поезд больше стоял, чем ехал. Я уже начала волноваться, что опоздаю. Наконец, мы добрались до Берлина. Я побежала к метро и поехала в довольно отдаленный район — Далем, где в элегантных особняках был размещен штаб Власовского движения. Особняк, где помещался идеологический центр и резиденция профессора Иванов, я нашла без труда. Не было пяти часов вечера, хотя и начинало темнеть, и Иванов должен был быть у себя в кабинете. Войдя в комнату секретариата, я назвала себя, и секретарь пошел доложить Иванову. Последний вышел из кабинета, взглянул на меня, не подошел, не поздоровался за руку и только равнодушно произнес: «а, приехали, зайдите завтра», — повернулся спиной и исчез за дверью кабинета. И снова сказалась моя молодость. Мне надо было пройти за ним в кабинет и спросить, в чем дело. Но я остолбенела: после таких писем, таких уговоров, таких комплиментов — такой от ворот поворот! Совершенно ошеломленная, я повернулась и вышла на улицу. Но куда мне было идти? Деньги на номер в гостинице у меня были, но совершенной фантазией было бы предположить, что гражданское лицо, да еще иностранка, сможет найти в Берлине конца 1944 года гостиницу, которая сдавала бы комнаты. Почти все гостиницы были заняты под военные нужды, а если и принимались гражданские лица, то лишь важные чины. Я никого в Берлине не знала. Был уже вечер, быстро темнело, мороз крепчал. Сколько раз я уже бывала на волосок от смерти, но в таком безвыходном положении, как теперь, еще никогда не находилась. Пойти в полицию? Там объяснить положение и переночевать хотя бы в участке или… даже в тюремной камере?