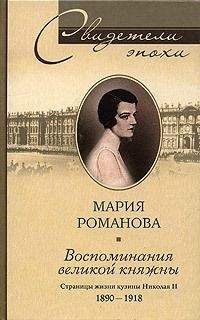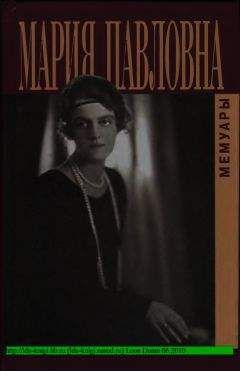Ознакомительная версия.
Новые правители почувствовали это недоверие и дрогнули перед ним. Не ожидая обнаружить в народе зверя, они с самого начала и оказались в его власти, управлять которым не могли. Оставалось только использовать силу убеждения. Яркие обобщения, бойкая демагогия, пламенные речи – они слышались без конца, в воздухе было от них душно. В то время слова еще производили впечатление на небогатое воображение русского человека.
Среди всей этой суматохи я чувствовала себя совершенно потерянной. Чувство полной беспомощности не покидало меня. Казалось, будто меня бросили в волны, которые могут поглотить меня в любой момент, а люди, плавающие рядом на обломках, потешаются над моими усилиями и готовы в любой момент покончить со мной. Казалось, они не замечают, что волны становятся все выше и выше и что сами они в смертельной опасности.
Вслед за прочтением манифеста Временного правительства 21 марта солдаты госпиталя, как и во всех военных подразделениях, дали клятву верности новому режиму. В тот день я не отважилась войти в церковь.
Во мне больше не нуждались; казалось, я стала врагом для людей, для моих соотечественников, которым я отдавала все свои силы. Для них я была хуже, чем чужая; они больше не принимали меня в расчет.
Главврач, с которым мы никогда не были в хороших отношениях, послал ко мне возмущенную сестру Зандину спросить, когда я намереваюсь покинуть Псков. По его словам, он ожидал приезда своей жены и хотел поместить ее в мою комнату. Это была его месть, и мое сердце болезненно сжалось. Враждебное отношение ко мне этого врача в любой момент могло коснуться и отца Михаила. Я решила, пока не поздно, отослать его вместе с прислуживающим монахом к его другу в Киев. Это были тяжелые часы для отца Михаила, доктора Тишина и меня. Они знали, что сейчас бессильны защитить меня; и мы все трое ощущали, что это последние дни нашей дружбы.
Первым должен был уехать отец Михаил. Затем Рузский сообщил, чтобы я приготовилась к отъезду. Я начала паковать свои иконы, рисунки, негативы, бумаги. Все, что я собрала с такой любовью, казалось теперь ненужным, но ценным мусором. Моя прежняя жизнь была мертва, та, что передстояла, была борьбой за свое существование.
Я в последний раз обошла свои любимые места и церкви вместе с доктором Тишиным и сестрой Зандиной, прощаясь с Псковом, где я провела много счастливых месяцев; я также зашла и в собор. Глядя на святыни с мощами псковских князей, я подумала о том, что они тоже были участниками истории и, сыграв свою роль, тоже были преданы забвению.
Все служащие больницы пришли на вокзал проводить меня, даже главврач. На платформе собралась толпа. Медсестры целовали мне руку, как в былые времена. Поезд представлял собой тяжелое зрелище. Везде: на крышах, на платформах, даже на буферах – сидели солдаты со своими вещмешками и винтовками. Коридоры были переполнены людьми. Станционные власти, бессильные перед напором серой массы, заполняющей каждую щель, проникающей везде подобно рою саранчи, тщетно пытались установить какой-то порядок. Садиться в поезд и ехать в таких условиях было далеко не безопасно, но выбора у меня не было.
Зандина настояла на том, что поедет со мной в Петроград, чтобы служить мне защитой. В конце концов, она, я и моя собака каким-то образом вошли в вагон и заняли в купе места, которые с огромным трудом штаб достал для себя. Штабной офицер, закрыв за нами дверь купе, запечатал ее, а печать должен был сломать начальник Петроградского вокзала. Она и была нашей единственной защитой.
Когда поезд тронулся, а люди на платформе и город скрылись из вида, мои нервы совершенно сдали. Я долго не могла унять слезы. Мне было мучительно жаль всего: Псков, прошлое, себя – и, как бы я ни старалась, я никак не могла представить себе, каким будет будущее.
Мы благополучно прибыли в Петроград, хотя поезд на много часов опоздал. Печать с двери нашего купе снял помощник начальника вокзала. На вокзале никто меня не встречал; залы для царской семьи, через которые я обычно проходила, были заперты на замок. Домашний лакей, уже без ливреи, ждал меня на улице, и вместо машины стоял древний наемный экипаж, запряженный двумя блекло-белыми лошадьми. Я устало спустилась на высокую подножку и села на вылинявшее продавленное сиденье. Меня окутал явственный запах плесени. Мы тронулись. Все вокруг мне казалось чужим и внушало ужас. Улицы были пустынны и тихи. Сергеевский дворец напоминал мавзолей.
С начала революции прошло всего две недели, которые показались годами.
На следующий день после приезда из окна гостиной, выходившего на Невский проспект, я наблюдала шествие, которое было организовано в память жертв революции. Это была гражданская церемония. Впервые российское духовенство не принимало участия в государственном мероприятии. Траурное шествие служило другой цели: это была демонстрация силы со стороны нового правительства.
Пораженная, я наблюдала за этой процессией, которая медленно разворачивалась, соблюдая строжайший порядок и церемонию. Здесь была старая Россия, которая в необычно видоизмененной форме изображала свое прошлое, славное и трагическое, и выражала свою надежду на лучшее будущее.
Посол Франции Палеолог в мемуарах, где описал свое пребывание в России, замечает с обычной для него проницательностью, что достоинство революционных празднеств можно объяснить только русским талантом и склонностью к внешнему, театральному проявлению любого чувства. Та церемония, хотя и была похоронной, демонстрировала радость и облегчение оттого, что наступило время великих перемен. Это настроение, непонятное для меня, пронизывало весь Петроград. В Пскове, где преобладали военные, господствовала растерянность и тревога.
Петроград же радовался. Государственные деятели прежнего режима сидели под замком в государственных зданиях или в тюрьмах; газеты пели гимны революции, свободе и поносили прошлое с удивительной яростью. Памфлеты с карикатурами царей и жалкими и оскорбительными намеками и обвинениями продавались на всех углах. В моду вошли совершенно новые выражения, язык внезапно обогатился иностранными словами, завезенными, чтобы более энергично выразить восторг момента.
Но настоящая жизнь города стала, несмотря на весь этот революционный энтузиазм, вялой и бесцветной. Улицы стали убирать небрежно. Толпы праздных, распущенных солдат и матросов постоянно шатались по улицам, а хорошо одетые люди, имевшие кареты и машины, прятались по домам. Полицейских не было видно. Все шло самотеком, и шло очень плохо.
Даже те слуги, которые работали у нас на протяжении многих лет, а то и поколений, попали под влияние новых течений. Они начали выставлять требования, образовывать комитеты. Немногие остались верны хозяевам, которые во все времена заботились о них, платили им пенсию в старости, нянчились с ними, когда они болели, и посылали их детей в школу.
Ознакомительная версия.