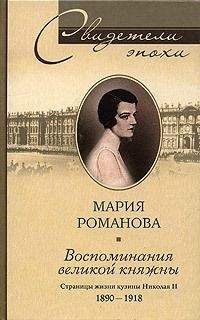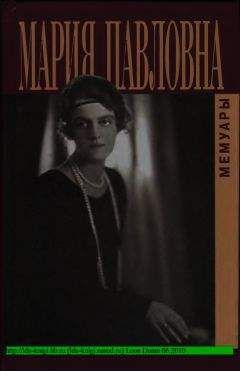Ознакомительная версия.
В доме моего отца по-прежнему царила атмосфера внутреннего тепла и комфорта, это казалось убежищем от окружающего хаоса и неопределенности. Отец, которому в то время было пятьдесят семь лет, с удивительным спокойствием переносил потерю связей и материальные лишения, которые уже начали сказываться на нашей жизни. Но именно его терпение и смирение ранили меня в самое сердце.
Наша повседневная жизнь очень мало изменилась. Мы по-прежнему следовали привычному порядку; пожалуй, во многих отношениях наша жизнь стала спокойнее. Теперь мы находились в таком положении, что дружба с нами подвергала людей риску. Всякий, кто заходил в наш дом или в дома любых других членов бывшей царской семьи, вполне вероятно, впоследствии испытывал трудности. Те, кто все же приходил, считали наилучшим выходом сделать визит тайным. Например, прощальный визит французского посла Палеолога был тщательно замаскирован. Но мой отец предпочитал не ставить своих друзей в неловкое положение, так что мы видели людей все меньше и меньше.
Я скучала по своей работе и не могла не сожалеть о вынужденном безделье. Через две недели после моего отъезда из Пскова меня приехал навестить доктор Тишин, которому больничные санитары дали удивительное поручение. Они образовали свой собственный совет и приняли резолюцию просить меня вернуться в Псков и взять под свое руководство весь госпиталь. Я отказалась, но, несмотря на все, я помню, была польщена их просьбой, которую я не могу объяснить даже сейчас.
Тишин сказал, что госпиталь и его персонал совершенно изменились; никто больше не интересуется работой. Постоянно вспыхивают ссоры, каждый день медсестры просят перевода в другое место или уходят. Эта внутренняя неразбериха была всего лишь слабым отражением еще большей внешней неразберихи. Весь Псков, по словам Тишина, погрузился в революционный беспорядок.
Даже в Царском Селе все вокруг нас менялось с головокружительной скоростью. С болезненным интересом мы следили за каждой новой переменой и полной перестановкой и старались предсказать наше будущее. Мы мало что могли увидеть. Каждый новый день рушил наши надежды и опровергал предположения дня предыдущего.
Но мы все же жили и надеялись. Несмотря на революцию, несмотря на оскорбления, с которыми сталкивались на каждом шагу, мы по-прежнему верили в традиционный идеал – в русскую душу. Небольшая порция реальности, надеялись мы, быстро охладит тот энтузиазм, с которым люди воспринимали ошибочные решения, допускаемые правительством дилетантов, и все наладится.
Тем временем о правительстве было все меньше и меньше известий. Совет солдатских и крестьянских депутатов с каждым днем все громче и чаще заявлял о себе. Интеллигенция, которая так тепло встретила революцию, отчаянно пыталась теперь при помощи звучных слов, речей и манифестов скрыть свою полную неспособность управлять.
Как и у нас, у них тоже были свои идеалы и иллюзии. Они думали, что могут ожидать от масс, так внезапно освобожденных, сознательного отклика, разумного сотрудничества. Вдохновенные речи Керенского, который тогда был левым министром в новом кабинете, были выражением этой веры; такова была и борьба правительства и генералов за продолжение войны и выполнение наших обязательств перед союзниками. Но все было тщетно; страна была во власти вооруженных солдат, а их было несколько миллионов, и они не хотели воевать.
Император вернулся к своей семье и жил вместе с ней под арестом в Александровском дворце, постоянно подвергаясь излишним унижениям и жестоким оскорблениям. Люди, окружающие когда-то царскую семью, получали удовольствие, унижая их. Император и императрица были совершенно оторваны от нас, и никому не было позволено видеть их. Прежнее добровольное уединение царской семьи теперь сменилось вынужденной изоляцией. Рассказывали, что они старались терпеливо подчиняться всем приказам нового правительства, часто противоречивым и обычно совершенно бессмысленным.
Иногда их можно было мельком увидеть издалека. Каждый день после обеда император выходил в сад с детьми и под наблюдением многочисленной стражи колол лед и расчищал снег. Место для этого спектакля обычно выбиралось возле ограды парка, и обитатели Царского Села, особенно низшие классы, собирались на другой стороне поглазеть и поглумиться. Вокруг раздавались грубые и иногда непристойные замечания, в то время как император спокойно продолжал свою будничную работу, будто ничего не слыша.
Моя мачеха иногда стояла в этой толпе и возвращалась в слезах от всего, что видела и слышала. Что причиняло ей самую сильную боль – так это не столько враждебность толпы к монарху, который еще недавно был всесилен, сколько странное безразличие и жестокость, с которой эти простые люди собирались поглазеть на своего бывшего царя, будто он был каким-нибудь редким животным в клетке. Они бросали реплики, по ее словам, точно он был зверем, неспособным услышать или понять их.
И я, и отец избегали этого зрелища. Я никогда не ездила на машине мимо Александровского дворца. У главных и у всех малых ворот на лавочках или ящиках сидели, развалясь, часовые, очевидно стараясь неопрятностью, распущенностью показать свою принадлежность к революционной армии.
Моя симпатия к арестованной царской семье, особенно к императрице, была, должна признаться, совершенно обезличенной. Я жалела их, как сочувствовала бы любому в их положении, вот и все. В моей душе накопилось столько горечи, что даже наши личные отношения в прошлом не могли заставить меня расчувствоваться. Слишком велика была цена, которую нам теперь приходилось платить за их вековые предрассудки и упрямство.
Такие чувства, даже если их и разделяли члены моей семьи, никогда открыто не высказывались. Все было обсуждено уже давно, и теперь, когда худшее произошло, об этом было слишком мучительно говорить. К тому же, несмотря на удары, которые наносила нам революция, приходилось признать, что мы все были в известном смысле виноватыми и теперь несли за это ответственность.
Теперь мне казалось, как и в прошлом, что наше недостаточное образование и воспитание было главным объяснением происшедшего, и теперь я видела, что это касалось всех классов в России: и высших, и низших. То же отсутствие сознательного отношения к жизни, то же легкомыслие и поверхностность, с которыми мы встретили распад старого мира, мы теперь проявляли даже еще более заметно, пытаясь приспособиться к новому. Мы придавали, как дети, огромное значение пустякам. Например, чем, как не отсутствием чувства меры можно было объяснить решение услужливого духовенства стереть в псалмах Давида все строчки, содержащие слово «царь».
Ознакомительная версия.