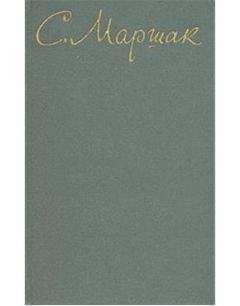Я украдкой раздобыл дома иголку с белой ниткой и живо принес девочке.
Она успела уже привести в порядок смятое платье и пригладить волосы.
— Как вас зовут? — спросил я ее.
— Шурой зовут, — сказала она, — а ты отвернись, пожалуйста.
Через несколько минут все было пришито.
— Слушай, мальчик, — прошептала она, наклоняясь к самому моему уху. — Если ты кому-нибудь скажешь, что я слетела сверху, я тебе…
Она подумала немного, а потом сказала:
— Я с тобой навсегда поссорюсь…
Она опять подумала, потом схватила мою руку и поднесла ее к моему лбу.
— Перекрестись, что никому не скажешь.
Я был очень испуган и готов был поклясться всем святым, что никому не скажу. Но перекреститься я не мог. В нашей семье никто никогда не крестился.
— Я не умею, мне нельзя, — сказал я ей.
— Как не можешь? — Спросила она гневно. — Ты что, креститься не умеешь? Разве ты собака или кот, а не человек?
И она громко рассмеялась.
— Ну ладно, — сказала она потом и стала озабоченно рыться в кармане платья. — Вот что, мальчик. Хочешь, я тебе подарю зеркальце? Видишь, тут круглая крышечка, она отодвигается и опять задвигается. А когда я пойду в город, я тебе куплю пистолет и пистоны или коробку папирос.
Я отказался от зеркальца, пистолета и папирос. Я поклялся ей, как умел, что до самой своей смерти никогда никому не скажу о ее падении.
Тогда девочка взяла меня за плечи и сказала, улыбаясь сквозь слезы:
— Ты очень хороший мальчик. Я тебя люблю. — И она крепко поцеловала меня в щеку.
Она выстирала в бочке мой платок и разостлала на траве сохнуть.
Так я познакомился с Шурой.
Это была та самая Шура Ястребова, из-за которой в продолжение многих лет шла потом между тремя дворами ожесточенная война.
Толстый преподаватель истории и географии в синем сюртуке с золотыми пуговицами и золотыми наплечниками шел вприпрыжку по коридору гимназии.
Впереди него бесшумно скользил, низко наклонив голову, батюшка в рясе. Перед батюшкой мчался во весь опор высокий и стройный немец, размахивая левой рукой, а правой прижимая к груди классный журнал в гладком черном переплете.
Все они шли из учительской в классы. Двери комнат по обе стороны коридора были широко открыты, а у дверей стояли дежурные ученики. В начале коридора — усатые молодые люди, дальше — подростки, а еще дальше пухлые мальчики. Вот исчез немец, и за ним быстро закрылись двери одной из комнат.
Там сразу стало тихо, между тем, как в соседних комнатах еще хлопали крышками парт и ревели, как в зверинце.
Преподаватель географии подошел ко второму классу. Чистенький мальчик, смуглый, почти черный, встретил его у дверей и шаркнул ножкой:
— Здравствуйте, Павел Павлыч.
— А, Курмышев! — ласково прогудел Павел Павлович и погладил мальчика широкой ладонью по стриженой голове.
Павел Павлович влетел в класс, подпрыгивая, как на рессорах. В комнате было светло и весело. Тридцать семь гимназистов с шумом поднялись со своих мест, в последний раз стукнув крышками парт. Павел Павлович тяжело взобрался на кафедру, блестевшую, как новенький цилиндр, и раскрыл журнал.
Курмышев стоял у кафедры, как стрелочник у паровоза. Он читал листок:
— Отсутствующие — Барабанов, Гарбуз, Зуюс, Мироносицкий, Панчулидзе, Расторгуев и Цыпкин.
Павел Павлович взял в пухлые пальцы перо и что-то записал в журнал.
Не успел Курмышев добраться до своей парты, как с кафедры прозвучал густой бас Павла Павловича:
— Курмышев!
Курмышев вернулся к кафедре.
— Откройте окошко, — сказал Павел Павлович.
Курмышев влез на подоконник и с треском открыл окно. Окна открывались в первый раз этой весной. Подул ветер и зашелестел географическими картами. В класс ворвался из сада посторонний голос:
— Мишенька! Мишенька! Вернись! — кричала в саду женщина.
В классе засмеялись.
Павел Павлович грозно посмотрел на класс и сказал:
— Если так, господа, сидите при закрытых окнах. Курмышев!
Курмышев, который еще не успел слезть с подоконника, захлопнул окно.
— Теперь Павлушка рассердился — резать будет, — сказал Курмышеву мальчик на передней парте. — Он свежий воздух любит, а в классе духота.
И правда, Павел Павлович сидел на кафедре и тяжело дышал.
— Чем это у вас здесь пахнет? — сказал он, нюхая воздух. — Дежурный!
— Не знаю, Павел Павлыч, — сказал Курмышев.
— Говорите, что у кого на завтрак. У тебя? — ткнул он пальцем мальчика на первой парте.
— Пирог.
— У тебя?
— Жареная печенка.
— У тебя?
— Бутерброд с колбасой.
— У тебя?
— Яичница, — сказал смущенно толстый мальчик, сидевший в конце класса на «Камчатке». Весь класс захохотал.
— Яичница! — передразнил Павел Павлович, — завтракали бы дома, а то превращают класс в кухмистерскую. Яичница!
Классу стало весело.
— Дудкин суп в класс принес! — крикнул кто-то.
Павел Павлович встал во весь рост.
— Кто это сказал? — спросил он.
Все молчали.
— Кто сказал про суп?
Никто не отзывался.
— В таком случае Дудкина вон из класса, пока виновный не сознается.
Дудкин направился к двери.
— А ну-ка вернись! — закричал Павел Павлович, когда Дудкин уже закрывал за собой дверь.
Дудкин вернулся.
— Ты что это сделал ногой, когда выходил?
— Ничего, Павел Павлович.
— Это у него походка такая, Павел Павлович, — крикнул с места Баландин.
— Я тебе покажу, как коленца выкидывать, — сказал Павел Павлович. — Сейчас же ступай вон до конца урока. И ты, Баландин, тоже.
Рыжий, веснушчатый Баландин встал и медленно пошел между партами, незаметно задевая на ходу товарищей.
— Быстрее! — крикнул Павел Павлович.
— Я быстрее не могу, — буркнул Баландин. Он вышел наконец из прохода между партами и, описывая дугу, медленно направлялся к выходу.
Гимназисты давились от смеха.
— Ну и Баланда! Вот так рыжий!
Павел Павлович пристально смотрел на Баландина, Баландин на Павла Павловича. Вдруг Баландин упал на пол.
— Что это? — спросил Павел Павлович. — Ты издеваешься, что ли?
Баландин встал, сморщил гримасу и стал тереть колено.
— Я подскользнулся, Павел Павлович.
— Поскользнулся? Вот ты у меня поскользнешься в последней четверти! Иди-ка отвечать за весь год.
Этого никто не ждал. В классе затихли.
— Павел Павлович, — сказал Баландин серьезно, — вы ведь обещали не спрашивать меня эту неделю. Я ведь обещал вам подготовиться к следующему понедельнику. Я лучше выйду из класса, Павел Павлович.