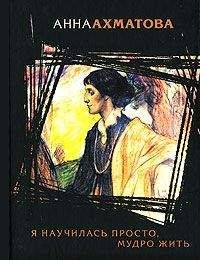Факелы гаснут, потолок опускается. Белый (зеркальный) зал[68] снова делается комнатой автора. Слова из мрака:
Смерти нет – это всем известно,
Повторять это стало пресно,
А что есть – пусть расскажут мне.
Кто стучится?
Ведь всех впустили.
Это гость зазеркальный? Или
То, что вдруг мелькнуло в окне…
Шутки ль месяца молодого,
Или вправду там кто-то снова
Между печкой и шкафом стоит?
Бледен лоб и глаза открыты…
Значит, хрупки могильные плиты,
Значит, мягче воска гранит…
Вздор, вздор, вздор! – От такого вздора
Я седою сделаюсь скоро
Или стану совсем другой.
Что ты манишь меня рукою?!
За одну минуту покоя
Я посмертный отдам покой.
Где-то вокруг этого места («…но беспечна, пряна, бесстыдна маскарадная болтовня…») бродили еще такие строки, но я не пустила их в основной текст:
«Уверяю, это не ново…
Вы дитя, синьор Казанова…»
«На Исакьевской ровно в шесть…»
«Как-нибудь побредем по мраку,
Мы отсюда еще в «Собаку»[69]…
«Вы отсюда куда?» —
«Бог весть!»
Санчо Пансы и Дон-Кихоты
И, увы, содомские Лоты[70]
Смертоносный пробуют сок,
Афродиты возникли из пены,
Шевельнулись в стекле Елены,
И безумья близится срок.
И опять из Фонтанного Грота[71],
Где любовная стонет дремота,
Через призрачные ворота
И мохнатый и рыжий кто-то
Козлоногую приволок.
Всех наряднее и всех выше,
Хоть не видит она и не слышит —
Не клянет, не молит, не дышит,
Голова Madame de Lamballe,
А смиренница и красотка,
Ты, что козью пляшешь чечетку,
Снова гулишь томно и кротко:
«Que me veut mon Prince
Carnaval?»[72]
И в то же время в глубине залы, сцены, ада или на вершине гетевского Брокена появляется. Она же (а может быть – ее тень):
Как копытца, топочут сапожки,
Как бубенчик, звенят сережки,
В бледных локонах злые рожки,
Окаянной пляской пьяна, —
Словно с вазы чернофигурной
Прибежала к волне лазурной
Так парадно обнажена.
А за ней в шинели и в каске
Ты, вошедший сюда без маски,
Ты, Иванушка древней сказки,
Что тебя сегодня томит?
Сколько горечи в каждом слове,
Сколько мрака в твоей любови,
И зачем эта струйка крови
Бередит лепесток ланит?
Иль того ты видишь у своих колен,
Кто для белой смерти твой покинул плен?
1913
Спальня Героини. Горит восковая свеча. Над кроватью три портрета хозяйки дома в ролях. Справа она – Козлоногая, посредине – Путаница, слева – портрет в тени. Одним кажется, что это Коломбина. другим – Донна Анна (из «Шагов Командора»). За мансардным окном арапчата играют в снежки. Метель. Новогодняя полночь. Путаница оживает, сходит с портрета, и ей чудится голос, который читает:
Распахнулась атласная шубка!
Не сердись на меня, Голубка,
Что коснусь я этого кубка:
Не тебя, а себя казню.
Все равно подходит расплата —
Видишь там, за вьюгой крупчатой,
Мейерхольдовы арапчата
Затевают опять возню.
А вокруг старый город Питер,
Что народу бока повытер
(Как тогда народ говорил), —
В гривах, в сбруях, в мучных обозах,
В размалеванных чайных розах
И под тучей вороньих крыл.
Но летит, улыбаясь мнимо,
Над Мариинскою сценой prima,
Ты – наш лебедь непостижимый, —
И острит опоздавший сноб.
Звук оркестра, как с того света
(Тень чего-то мелькнула где-то),
Не предчувствием ли рассвета
По рядам пробежал озноб?
И опять тот голос знакомый,
Будто эхо горного грома, —
Ужас, смерть, прощенье, любовь…
Ни на что на земле не похожий,
Он несется, как вестник Божий,
Настигая нас вновь и вновь.
Сучья в иссиня-белом снеге…
Коридор Петровских Коллегий[73]
Бесконечен, гулок и прям
(Что угодно может случиться,
Но он будет упрямо сниться
Тем, кто нынче проходит там).
До смешного близка развязка;
Из-за ширм Петрушкина маска[74],[75]
Вкруг костров кучерская пляска,
Над дворцом черно-желтый стяг…
Анна Павлова – прима-балерина Императорского Мариинского театра
Но летит, улыбаясь мнимо,
Над Мариинскою сценой prima,
Ты – наш лебедь непостижимый…
Федор Шаляпин в роли Демона. Константин Коровин. Эскиз афиши к опере
И опять тот голос знакомый,
Будто эхо горного грома,
Наша слава и тожество!
Он сердца наполняет дрожью,
И несется по бездорожью,
Над страной вскормившей его…
Все уже на местах, кто надо;
Пятым актом из Летнего сада
Пахнет… Признак цусимского ада
Тут же. – Пьяный поет моряк…
Как парадно звенят полозья
И волочится полость козья…
Мимо, тени! – Он там один.
На стене его твердый профиль.
Гавриил или Мефистофель
Твой, красавица, паладин?
Демон сам с улыбкой Тамары,
Но такие таятся чары
В этом страшном дымном лице —
Плоть, почти что ставшая духом,
И античный локон над ухом —
Всё таинственно в пришлеце.
Это он в переполненном зале
Слал ту черную розу в бокале
Или все это было сном?
С мертвым сердцем и мертвым взором
Он ли встретился с Командором,
В тот пробравшись проклятый дом?
И его поведано словом,
Как вы были в пространстве новом,
Как вне времени были вы, —
И в каких хрусталях полярных,
И в каких сияньях янтарных
Там, у устья Леты – Невы.
Ты сбежала сюда с портрета,
И пустая рама до света
На стене тебя будет ждать.
Так плясать тебе – без партнера!
Я же роль рокового хора
На себя согласна принять.
На щеках твоих алые пятна;
Шла бы ты в полотно обратно;
Ведь сегодня такая ночь,
Когда нужно платить по счету…
А дурманящую дремоту
Мне трудней, чем смерть, превозмочь.
Ты в Россию пришла ниоткуда,
О мое белокурое чудо,
Коломбина десятых годов!
Что глядишь ты так смутно и зорко,
Петербургская кукла, актерка,
Ты – один из моих двойников.
К прочим титулам надо и этот
Приписать. О подруга поэтов,
Я наследница славы твоей,
Здесь под музыку дивного мэтра —
Ленинградского дикого ветра
И в тени заповедного кедра
Вижу танец придворных костей…
Оплывают венчальные свечи,
Под фатой «поцелуйные плечи»,
Храм гремит: «Голубица, гряди!»[76]
Горы пармских фиалок в апреле —
И свиданье в Мальтийской капелле[77],
Как проклятье в твоей груди.
Золотого ль века виденье
Или черное преступленье
В грозном хаосе давних дней?
Мне ответь хоть теперь: неужели
Ты когда-то жила в самом деле
И топтала торцы площадей
Ослепительной ножкой своей?…
Дом пестрей комедьянтской фуры,
Облупившиеся амуры
Охраняют Венерин алтарь.
Певчих птиц не сажала в клетку,
Спальню ты убрала как беседку,
Деревенскую девку-соседку
Не узнает веселый скобарь[78].
В стенах лесенки скрыты витые,
А на стенах лазурных святые —
Полукрадено это добро…
Вся в цветах, как «Весна» Боттичелли,
Ты друзей принимала в постели,
И томился драгунский Пьеро, —
Всех влюбленных в тебя суеверней
Тот, с улыбкой жертвы вечерней,
Ты ему как стали – магнит.
Побледнев, он глядит сквозь слезы,
Как тебе протянули розы
И как враг его знаменит.
Твоего я не видела мужа,
Я, к стеклу приникавшая стужа…
Вот он, бой крепостных часов…
Ты не бойся – дома не мечу, —
Выходи ко мне смело навстречу —
Гороскоп твой давно готов…
К.А. Сомов. Наброски костюма Коломбины для А. Павловой. 1909 г.
Когда в июне 1941 г. я прочла М<арине> Ц<ветаевой> кусок поэмы (первый набросок), она довольно язвительно сказала: «Надо обладать большой смелостью, чтобы в 41 году писать об Арлекинах, Коломбинах и Пьеро», очевидно полагая, что поэма«мирискусничная стилизация в духе Бенуа и Сомова, т. е. то, с чем она, может быть, боролась в эмиграции, как с старомодным хламом. Время показало, что это не так.