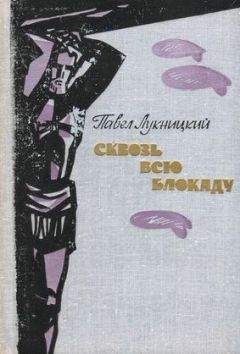Никогда так внимательно и подробно не рассматривал я соловья!
«Чирк-чирк». Певун поднялся, полетел над болотом, покружился у другого куста, помчался дальше к вражескому переднему краю. Вместе со мною следя за его полетом, Алексей Кочегаров шепчет:
— Не должóн бы ты немцу петь!
И, взглянув мне прямо в глаза, вздыхает:
— Да где же ей, птахе, в горе нашем-то разобраться!..
И больше не отрываясь от оптического прицела, сощурясь, укрыв сосредоточенное лицо в траве, лежа в удивительной неподвижности, снайпер Кочегаров терпеливо выискивает себе цель.
Я гляжу в бинокль, сначала вижу только расплывчатые гигантские, вставшие зеленой стеной стебли трав. Сквозь них такими же неясными тенями проходят образы людей, умерших от голода в Ленинграде; дети, разорванные фашистскими снарядами на улицах Ленинграда; женщины, обезумевшие, с горячечными глазами, в хлебных очередях. Видится мне пытаемый медленными зимними пожарами мой родной город, слышится свист пикирующих бомбардировщиков… Это длится, быть может, мгновенье, и вот, в «просеке» между травами, в точном фокусе на перекрестье линз я вижу бугор немецкого переднего края, мыс, выдвигающийся в болото, «пятый ориентир» — березку, за нею белые кресты на кладбище гитлеровских вояк… Я вспоминаю: на днях — годовщина Отечественной войны. Мой Ленинград все еще в блокаде!
И томительного щемления в сердце нет. В сердце, как прежде, ожесточенность. Я вглядываюсь в белые немецкие кресты и размышляю о том, что ни одного из них не останется, когда наша дивизия продвинется на километр вперед… Когда это будет? На месте как вкопанные стоим и мы, и немцы, — вот уже чуть ли не девять месяцев! Но это будет, будет… А пока — пусть Кочегаров лютого врага бьет, бьет не зная пощады. Все правильно. Все справедливо!
…Что-то в Липках привлекло внимание Кочегарова. Он долго всматривался, оторвал взгляд от трубки, потер глаз, вздохнул:
— Ничего… Померещилось, будто фриц, а то — лошадь у них по-за домом стоит. Иногда торбой взмахнет, торба выделится… А всё ж таки притомительно, но глядеть надо! Иной раз все глаза проглядишь до вечера — и впустую!.. Наше дело напряженья для глаза требует!
И опять прильнул к трубке. Я повел биноклем по переднему краю немцев: все близко, все предметно ясно, вплотную ко мне приближено, каждая хворостина плетней, пересекающих прежние огородные участки между домами, разваленными, принявшими под свои поваленные стены вражеские блиндажи. И все — безжизненно: ни человека, ни собаки, ни кошки. Нет-нет да и прошелестит, просвистит низко над моей головой крупнокалиберный снаряд, пущенный издалека, из лесов наших. Да и грохнет посреди деревни разрывом. Взметнутся фонтаном земля, осколки, дым.
Раз донеслись пронзительные смертные крики и яростная немецкая ругань. Но никто на поверхности земли не показался.
И вновь по-прежнему. И приятельницы кочегаровской, лошади, мне никак не сыскать линзами, она больше не кажет из-за угла разбитого дома своей головы, не взмахивает торбой. Должно быть, отстали от нее оводы, задремала…
Все здесь в здешнем уродстве разрушений и смерти — буднично, обыденно. Скучна война!
Тишину разрывает сухой презрительно-равнодушный треск пулеметной очереди… Чей пулемет? Наш? Немецкий? Кочегаров косит глаза из-под низко надвинутой каски направо… А, это немцы из углового дзота бьют вдоль канала. Там, в направлении к нам, не приметно ничего особенного… Тарахтят, тарахтят… Умолкли… Наши не отвечают.
И опять — тишина!
— В Ленинграде бывали вы? — глядя в бинокль на канал у край Липок, шепотом спрашиваю я Кочегарова. («Как, должно быть, тонко пахнут там, у немцев, эти два цветущих куста черемухи!»)
— В Москве и в Ленинграде, — всматриваясь туда же, отвечает мне Кочегаров, — я не бывал. В городах был в Барнауле, Новосибирске, Бийске. В Азии был — Семипалын, Алма-Ата, Чимкент, Арысь, Аулие-Ата… Это в отпуск мы, три охотника, ездили путешествовать. И проездили все деньги, ружья и сапоги!.. Помолчим, товарищ майор, давайте!..
…Из-под куста черемухи одним прыжком вырывается человек. Пригибаясь к земле, он быстро-быстро бежит по бровке канала к линии бугорков. Ясно видны его каска, его голубовато-серая куртка. И, прежде чем можно подумать: зачем он выскочил и куда бежит, — Кочегаров нажимает на спусковой крючок. Сухой звук, и фигура, ткнувшись головой в землю, замирает.
— Есть! — удовлетворенно, горячим шепотом определяет Кочегаров, и на усталом лице его, прильнувшем к прикладу винтовки, спокойная презрительная улыбка. — Ну, теперь начнет крыть!
Тишина сразу же разорвана яростной трескотней незримого пулемета. Он бьет из-под того бугорка, куда бежал человек. Он захлебывается длинной очередью, и Кочегаров, ткнув меня локтем, беззвучно смеется:
— Видишь, куда берут! Они думают — из опушки!
Действительно, гитлеровцам невдомек, что снайперский выстрел был из бесшумки да с дистанции в сто восемьдесят метров. Они косят огнем надрывающегося пулемета уже давно искрошенные деревья в том направлении, где Кочегаров утром остерегал меня от зеленых смертоносных коробочек. Отсюда до них больше километра… Стучит пулемет, и вслед за его трескотней летят по небу, режут слух воющие тяжелые мины — одна, вторая и третья. И сразу быстрой чередой — три далеких разрыва сзади, и, оглянувшись на мыс, откуда мы вползли в болото, я вижу мельканье разлетающихся ветвей. За первым залпом — несколько следующих, бесцельных. Кочегаров даже не клонит к земле головы, ему понятно по звукам: разрывы ложатся позади нас, не ближе чем в трехстах метрах.
В ответ на немецкий огонь по всему переднему краю немцев начинают класть мины наши батальонные минометы. Вдоль канала строчит «максим», перепалка длится минут пятнадцать, фонтаны дымков сливаются в низко плывущий над Липками дым. Но людей словно бы нигде и нет.
Стучат пулеметы, рвутся мины, а снайперу Кочегарову в эти минуты самое время изощрить наблюдение за противником: не — подползет ли кто-нибудь к убитому, не вскроется ли еще огневая точка, не приподнимется ли там, впереди, чья-либо голова?
Но враг опытен. Никаких целей впереди нет.
И снова все тихо…
Еще через час, после медленного и молчаливого нашего отхода, я с Кочегаровым снова шагаю по лесу. Иду, задумавшись, Кочегаров опять мне что-то рассказывает, — о том, как ему приходилось бывать в «пререканиях» с немецкими снайперами, и про последнего, убитого им два дня назад «сто двенадцатого». Но я устал и не слушаю.
— Вот такое мое происшествие!.. А сейчас — это уже, считай, сто тринадцатый! — заканчивает свой рассказ Кочегаров, и мы продолжаем путь молча. Кочегаров вдруг прерывает молчание: