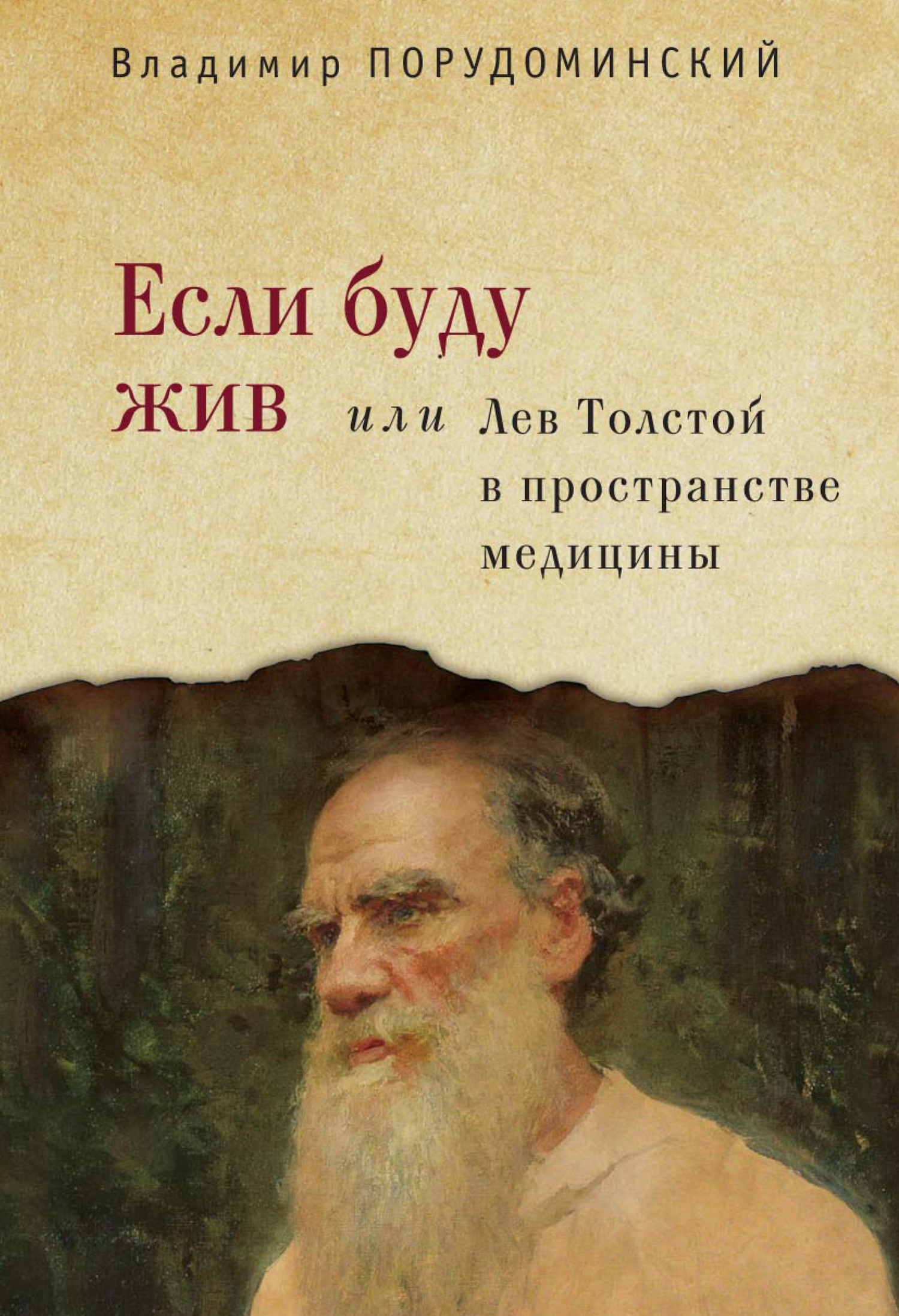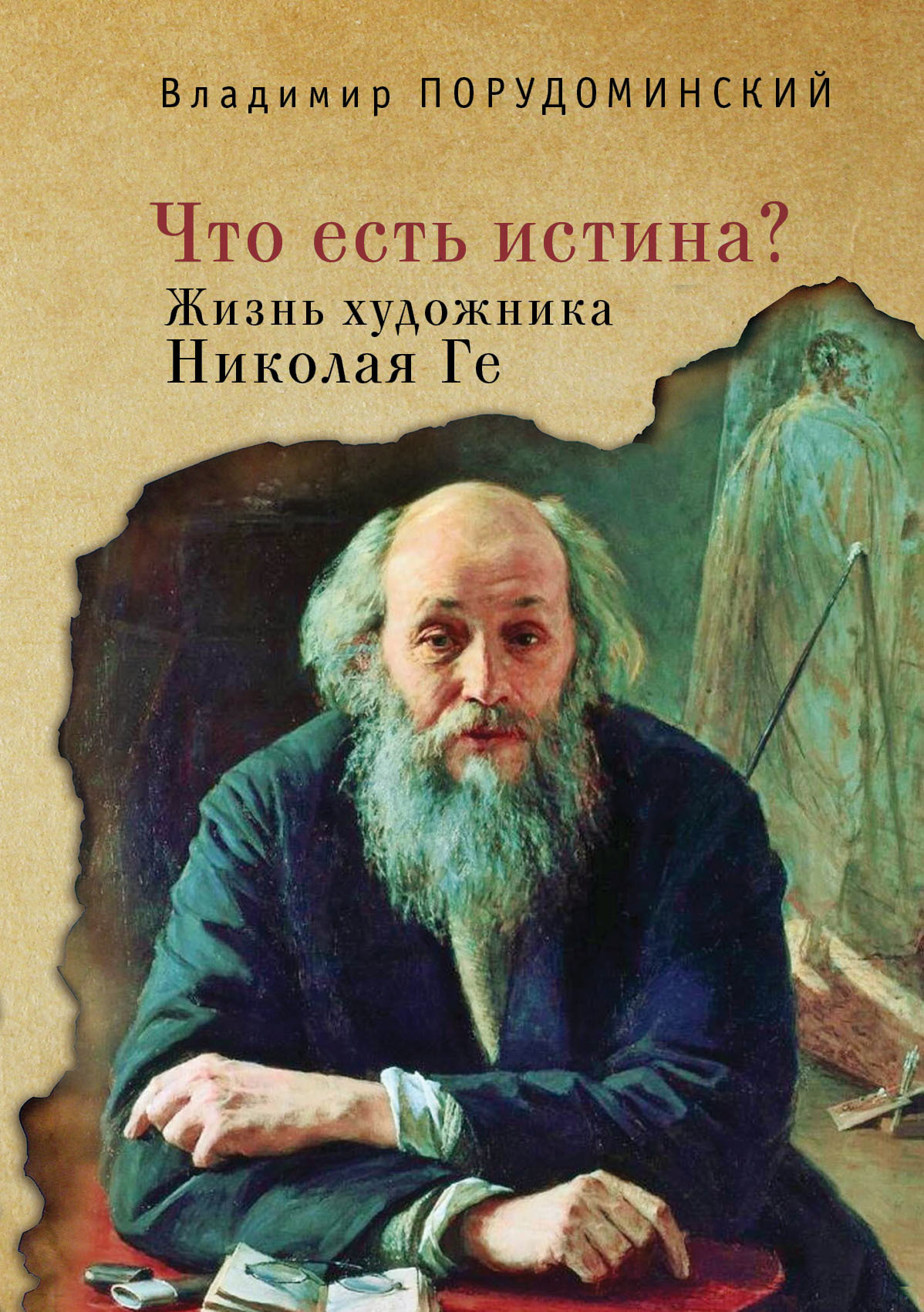полагалось, появлялись на столе фрукты и шампанское; на Рождество готовили индейку и подавали пылающий голубым огнем ромовый пудинг (кушанье, появившееся в доме вместе с гувернанткой-англичанкой), но – опять же не будем ни упрощать, ни опрощать – праздничный стол, когда собирались свои, домашние, привычно незатейлив. Софья Андреевна перечисляет именинные блюда: пирог, гусь, чай с кренделем.
Опыт самой строгой диеты
Осенью 1865-го он пишет доктору А.Е. Берсу, отцу Софьи Андреевны: «Есть в Петербурге профессор химии Зинин, который утверждает, что 99/100 болезней нашего класса происходит от объедения. Я думаю, что это великая истина, которая никому не приходит в голову и никого не поражает только потому, что она слишком проста».
Он переживает как раз один из периодов ослабления творческой энергии, на которые отзывался обычно резким ухудшением душевного и телесного состояния: «Не могу работать – писать, всё мне скучно и все мне скучны, говорил я сам себе, лучше не жить». Открывшаяся истина подвигает совсем было отчаявшегося Толстого сделать над собой опыт самой строгой диеты».
И что же? В дневнике он следит за собой. «Был нездоров – желчь… Все писал, но неохотно и безнадежно. Нынче первый день здоров. Ел очень мало. Неужели это только от объедения…» Следом: «Воздержание и гигиена полные – гимнастика… Писал»; «Та же диета… Писал по-новому – так, чтобы не переделывать… Ужинал, кажется, напрасно».
Наконец: «Шесть дней я стараюсь есть как можно меньше, так, что чувствую голод, не пью ничего, кроме воды с рюмкой вина, и шесть дней я совсем другой человек. Я свеж, весел, голова ясна, я работаю – пишу по 5 и 6 часов в день, сплю прекрасно, и все прекрасно».
«Опыт самой строгой диеты» окажется увлечением, забудется. Потому и забудется, что – диета, что на первом месте в данном опыте – забота о здоровье, пусть даже творческом, о способности писать так, как ему хочется, но великая истина, что для телесного и духовного здоровья надо освобождаться от «болезней нашего класса», первопричина которых – объедение, останется с Толстым до конца жизни.
Чем нехороша овсянка
Забота о воздержании, диетические «опыты» не мешают Толстому за обеденным столом забывать о намеченных принципах и правилах. Физический труд, часто тяжелый, с которым он до старости не расстанется, многие часы, проводимые зимой и летом на свежем воздухе, дальние прогулки, спортивные занятия – всё способствует хорошему аппетиту.
Но признаем и неумеренность Льва Николаевича, когда перед ним на столе оказывается любимое блюдо. Беспрестанно обдумывая и назначая себе задачи и правила, он при всем том не умеет, не любит «жить подробно». И хотя на вопрос, сколько блинов съел, отвечает прибауткой: «Пятый не съел, а четвертый не доел», – частенько доедает четвертый и съедает пятый. Доктор, приглашенный к Толстому, уже старику, называет причиной недомогания масленичные дни: «Он съедал по столько блинов, сколько хватило бы на двух здоровых людей».
Про овсянку, которую в старости охотно ест всякий день, Лев Николаевич говорит шутливо: «Овсянка тем нехороша, что ее никогда нельзя кончить»…
Размышляя о вегетарианстве отца, Сергей Львович выводит: «Моя мать считала, что вегетарианство вредно, в чем была неправа: отцу при его заболеваниях печени оно было несомненно полезно». Можно уверенно считать, например, что любовь Льва Николаевича к кашам, особенно к овсянке – результат бессознательных поисков приятной, щадящей еды при хроническом, часто обостряющемся заболевании.
Но для Толстого вегетарианство – всего менее средство сбережения здоровья. И грубые нарушения в питании, которые он подчас позволяет себе, заведомо зная, что такое дорого ему обойдется, – первое свидетельство тому. Речь не об отказе от вегетарианства, – нет, но, оставаясь вегетарианцем, он, подчас, ест лишнее, соединяет плохо сопрягаемые, тяжелые – простые! – кушанья и этим, конечно же, себе вредит.
Софья Андреевна с пристальным неодобрением помечает «застольные проступки» мужа: «С ужасом смотрела, как он ел: сначала грузди соленые, слипшиеся оттого, что замерзли; потом четыре больших гречневых гренка с супом, и квас кислый, и хлеб черный». И т. п. Она-то знает цену таким нарушениям. Обострения болезни Льва Николаевича требуют долгих, скрупулезных диет, которые его вегетарианством еще более осложняются: «Доктора велят есть икру, рыбу, бульон, а он вегетарианец и этим губит себя». Он то и дело отказывается от молока, яиц, которые в ту пору (часто бездоказательно) составляли основы лечебного питания: «Ел он сегодня овсянку, рисовую кашу на миндальном пополам с простым молоком (обманом) и яйцо, которое после трех дней уговорил его съесть доктор».
Но споры Софьи Андреевны с мужем о еде носят медицинский, тем более кулинарный характер только внешне. Это опять же споры о мировоззрении. Для нее, как и для него, вегетарианство – в числе тех нравственных начал («диких фантазий», по ее определению), которых он желает держаться и которым она не в силах и не желает следовать. «Я все в твое воспоминание живу по-барски и ем мясо», – докладывает жене Лев Николаевич. Софья Андреевна в свою очередь сообщает приятельнице: «Теперь он и мясо ест и принял опять свой барский вид».
Она не устает – подчас справедливо – втолковывать мужу, что его новый образ жизни только осложняет лишними требованиями жизнь других. Наверно, ему неприятно в ежедневных меню, подаваемых Софьей Андреевной повару, читать отдельным абзацем: «Графу завтрак…», «Графу к обеду…»
Он пишет, приехав один в Ясную: «Решил обедать людской обед <то есть – с прислугой>, а сам не готовить. Привычки мои не очень хитрые, и то, чтобы удовлетворить им, надо… целый день хлопотать… Чтобы не хлопотать самому целый день и не заставлять других на себя хлопотать, одно средство, чтобы привычки были общие, чтобы все ели одинаково. А когда один и привычки отличаются от привычек окружающих, то стыдно, как мне всегда стыдно».
Цель образования
Зоркие наблюдатели подмечают любовь Толстого к хлебу, бережное к нему отношение, какое бывает у крестьян. Тут опять-таки побудительное нравственное начало: хлеб – главная пища народа. Питаться хлебом – в каком-то смысле тоже приобщаться к народной жизни.
Софья Андреевна упрекает его, оберегая, за пристрастие к грубому и тяжелому продукту: «ел один хлеб», «набивает желудок хлебом». Но его не переделаешь – в этой любви он стоек.
Толстой возмущается, что, излишествуя в пище, люди объявили «наказанием самым жестоким с детства» – посадить на хлеб и воду: «Человек может питаться одним хлебом и быть довольным, а может человек обедать в шесть блюд и быть недовольным своей судьбой».
И – забавный случай, сообщенный приятелем Толстого:
«…Я положил кусок булки на край стола и теперь собирался